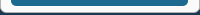Фима
Фима умер ночью. Они с Таней уже много лет спали в разных комнатах, но Таня спала чутко, и если слышала его прерывистый и громкий храп, то спала спокойно, а если Фиме становилось плохо, у него под рукой всегда был колокольчик. В этот раз Таню разбудила тишина. Сначала она не поверила себе, но потом совсем проснулась и босиком, не надевая тапочек, зябко поеживаясь, прошла в соседнюю комнату. Фима лежал маленький, с запрокинутой головой, и не дышал. Казалось бы, Таня давно была готова к этому исходу, особенно после того как два месяца назад врачи «скорой» с трудом возвратили задыхавшегося в беспамятстве Фиму к жизни, но сейчас она растерялась. Шел четвертый час ночи, звонить кому-то в этот неурочный час бессмысленно, да и кому? Фонари под окнами выхватывали из темноты летящий наискосок холодный мартовский снег, редкие такси проезжали по мостовой, безо всякой надежды пытаясь заманить заплутавшихся прохожих своими зелеными огоньками. Таня отошла от окна и подумала, что, наверное, надо заплакать, но слезы к глазам не подступали, и мыслей в голове никаких не было, кроме одной, которую она неуверенно пыталась прогнать: «Наконец-то…».
Уже давным-давно Таня привыкла к тому, что этот маленький глухой и беспомощный старичок, которому было ближе к девяноста, чем к восьмидесяти, и есть ее муж (ее, только ее!), который тогда, чуть ли не тридцать лет назад, как бенгальским огнем, ослеплял белозубой улыбкой, несмотря на тогда уже немалый возраст, был живым и подвижным, завораживал мягкой, даже чуть грубоватой речью. Фима никогда не делал никаких усилий, чтобы привлечь женщин, они всегда сами шли навстречу ему, а он ответно в них влюблялся, искренне, от всей души. За прожитые вместе годы Таня вольно или невольно узнала о множестве Фиминых любовных историй, но, конечно, далеко не обо всех. Когда Фима после войны закончил университет и остался в аспирантуре, пришла пора арестов всех мало-мальски заметных преподавателей, аспирантов и студентов. Несмотря на то, что Фима был, пожалуй, самым успешным аспирантом одного из арестованных в числе первых профессоров, его не тронули. Фимины коллеги, большинство из которых загремели – кто в Норильск, кто на Колыму – потом удивлялись, почему его не «замели». Может быть, он, вечно улыбающийся, открытый для общения еврей, недавний лейтенант-политработник, был – тьфу-тьфу – стукачом? Но это так не вязалось с Фиминым обликом, что слушок исчез, едва появившись.
Лишь немногим, самым близким друзьям, была известна истина. Перед самым началом арестов Фима закрутил бешеную любовь с признанной красавицей, женой самого тупого профессора их факультета. По своей тупости профессор не замечал, что красавица-супруга изменяла ему чуть ли не у него на глазах, лежала на коленях у Фимы, когда профессор в соседней комнате вымучивал очередной прославляющий вождя научный труд. Один раз, правда, он нечаянно чуть не застукал любовников, но неодетый Фима, как в плохих анекдотах, успел спрятаться в платяной шкаф. Когда косяком пошли аресты, потерявшая от любви осторожность профессорская жена призналась ему, что именно она как сотрудница «органов» составляла списки по их факультету.
Перепуганный Фима едва не уехал в Азербайджан, благо его диссертация была как-то связана с этой республикой, но тут его в связи с отсутствием научного руководителя из аспирантуры отчислили и по этой же причине несколько лет не допускали к защите готовой диссертации.
Фиму как еврея, да еще из разгромленного круга университетских ученых, никуда не брали на работу, пока один из знакомых не посоветовал ему обратиться к полусекретному профессору-океанологу, который, казалось бы, никакого отношения не имел к Фиминой науке – философии. Собственно говоря, секретным профессор Михайлов не был, но секретной была экспедиция, которую ему поручили возглавить вскоре после войны. Масштабно задуманная экспедиция провалилась из-за аномально неблагоприятных погодных условий, но Михайлов приобрел большой авторитет, главным образом, среди партийных чиновников, которые ничего в его работах не понимали, но смотрели на него снизу вверх как на человека, который был облечен доверием на выполнение секретного и, наверное, очень важного государственного задания.
В вузе, которым Михайлов руководил, Фима проявил себя как талантливый, от Господа Бога, преподаватель. Скучнейшую и занудную науку, именуемую марксистско-ленинской философией, Фима умел преподнести так, что самые заскорузлые двоечники, прятавшиеся на последнем ряду аудитории, чтобы покемарить там под усыпляющие звуки скрипучего голоса иного доцента, встряхивались и даже задавали то простодушные, то ехидные вопросы, на которые Фима подробно отвечал, по возможности не очень отклоняясь от узаконенных шаблонов бессмертного учения, но и не очень стесняя себя его рамками.
Устроившись на работу у профессора Михайлова, Фима женился. Жена его, Евгения Евгеньевна, в обиходе – Женя, была Фиминой одноклассницей. Никакой особенной привязанности друг к другу в школьные годы у них не было, пока Фима воевал, Женя вышла замуж, как ей казалось, по любви, родила дочку, а потом и разошлась с мужем, сохранив его фамилию только у дочери.
Женя в начале своей театральной карьеры была признанной королевой ролей второго плана. Знатоки специально ходили в маленький театр на спектакли, в которых она играла, и получали истинное наслаждение от интеллигентной манеры ее игры, в которой даже в крохотных ролях оживала эпоха. Евгения Евгеньевна была необыкновенно начитанна, в отличие от многих своих коллег, полагавшихся на «нутро» или на поверхностное восприятие так называемой «школы». Главное – что? «Театр начинается с вешалки», а дальше либо талант, либо нажитый годами опыт вывезут. Нет, Евгения Евгеньевна была не такая. Она не только знала всю подноготную своих героев, но и прочла все и о пьесе, и об авторе, однако не затверживала прочитанное, подобно попугаю, а обо всем складывала собственное мнение, нередко парадоксальное, но всегда поражающее открытием незаметных при следовании укоренившимся традициям черточек характеров, чуть намеченных автором акцентов и даже не всякому очевидных изгибов сюжета.
Острый ум и глубокая интеллигентность исподволь выталкивали Женю из театральной среды с ее закулисными пересудами и сплетнями, борьбой за первые роли, привычной среди актеров запутанностью интимных отношений. Евгения Евгеньевна оставила сцену и перешла на преподавательскую работу, где ее личные качества оказались вполне востребованными. Студенты любили ее лекции (что не так уж часто встречается у студентов), и немногие пока выпускники продолжали поддерживать связь «с нашей Евгень-Евгеньевной».
Так уж получилось, что у Фимы и Евгении Евгеньевны были общие друзья в мире театра. Со школьных лет Фима дружил с режиссером Израилем Полонским, Изей, который в зрелые годы возглавил прозябавший в безвестности театр и сделал его одним из самых популярных не только в городе, но и за пределами страны. Заезжая к Фиме, Изя неторопливо выпивал чашечку кофе и больше слушал, чем говорил сам, но даже его молчание было молодоженам дороже иных речей, сверкающих изощренным интеллектуальным блеском.
Другой их одноклассник, Иосиф Зусманович, почти всю жизнь оставался на одной и той же должности заведующего литературной частью академического театра. Отличаясь безупречным вкусом, Иосиф и сам писал лирические стихотворения, но никому их не читал, кроме ближайших друзей, среди которых были и высоко их ценившие подлинные знатоки. Они каждый раз уговаривали Иосифа отдать что-нибудь в печать, но он неизменно отшучивался: «Вот умру, тогда и публикуйте, где хотите». Жил Иосиф крайне бедно, воспитывая подраставшую дочь, которая так же плохо была приспособлена к практической жизни, как и отец, и никаких других привязанностей, кроме литературы, не имела. Неухоженная, не следующая моде девчонка своим видом не привлекала мальчиков, а развитым не по возрасту умом просто отпугивала. Отец нередко приносил книги, которые ни в какой библиотеке нельзя было достать, иногда даже растрепанные рукописи, напечатанные на папиросной бумаге через один интервал. Девочка знала, что ни с кем об этих рукописях говорить не следует, кроме разве Фимы и других ближайших друзей отца, которым он тоже давал их читать
Время от времени отцу удавалось немного подработать, выступая в городском лектории на темы театра и кино. После одного из таких выступлений дома раздался телефонный звонок, и в трубке прозвучал низкий мужской голос с заметным восточным акцентом: «Ув-важаеый тавариш… Иосиф З-зусманович… Вот вы вчэра говорили о дастижениях совэтского театра… Оч-чэнь, оч-чэнь интэрэсно…А вот па-ачэму вы ничего нэ сказали о за-мэча-тэльных дастижениях… азэрбайджанского театра?..». Иосиф не на шутку перепугался и неожиданно для самого себя стал оправдываться: конечно, он знаком с достижениями азербайджанского театра, и в следующей лекции непременно о них расскажет. Голос в трубке внушительно произнес: «Сма-атрите… Я правэрю!» – и послышались гудки.
Фиме недолго удалось сохранить секрет: это он дал номер телефона Иосифа своему бывшему ученику – молодому океанологу, который по расклеенным афишам узнал о лекции.
Был в компании Фимы и Жени актер – сын знаменитого актера, по праву носившего звание «народного». Сын пошел талантом в отца, но не имел той несокрушимой напористости, которая тому была присуща. Поэтому он всегда получал небольшие характерные роли, которые исполнял с таким точным воплощением в образ персонажа, что искушенный зритель диву давался от его мастерства. Он даже снялся в одном нашумевшем кинофильме, получившем все мыслимые премии и призы, и в эпизоде он был поистине великолепен, но вся слава досталась режиссеру и исполнителям главных ролей, а его эпизод был отмечен только специалистами-киноведами. Но Фима в особенности отмечал еще одно, казавшееся ему замечательным, качество своего приятеля. Тот много лет подряд избирался секретарем парторганизации своего театра, должно быть, для того, чтобы его унаследованная от обласканного властью отца знаменитая фамилия уравновешивала сомнительность творческих исканий главного режиссера, которого за эти самые искания в обкоме откровенно недолюбливали.
Фима с утра, если ни ему, ни Евгении Евгеньевне не надо было спешить на лекции, ходил по просторной квартире в шлепанцах, со спущенными с плеч подтяжками, разыскивал засунутые вечером неведомо куда бумаги и, словно заблудившийся в лесу, призывно восклицал: «Женька-а!». Красивая собака Чалка, эрдельтерьер, ходила за ним следом и негромким ворчанием, казалось, тоже призывала хозяйку. Евгень-Евгеньевна не очень любила готовить, но вкусная и здоровая пища была ее страстью. Первые помидоры, молодой картофель, морковка-скороспелка всегда попадали к ней на стол; эти овощи, как и парное мясо для отбивных, она покупала на соседнем рынке, самом дорогом в городе, никогда не торгуясь, но зато тщательно проверяла, чтобы первая клубника была ягодка к ягодке. Фима ел с большим удовольствием, Жене было приятно его кормить, а он, с сияющими глазами отрываясь от тарелки и продолжая жевать, провозглашал: «Вкусно!».
По вечерам у Фимы и Жени нередко собирались друзья и коллеги, иногда приводившие с собой уж вовсе незнакомых хозяевам визитеров. Молодые артисты, полярники, океанологи, остепененные философы усаживались, кто где придется, поглаживали по загривку Чалку, а та самодовольно урчала. Но бывали и такие гости, которых, без всяких видимых причин, Чалка напрочь не признавала. Однажды ни с того, ни с сего она облаяла скромного молодого океанолога, а когда тот испуганно попятился, цапнула его за ногу, прокусив штанину и оставив на лодыжке оттиск своих острых зубов. Евгения Евгеньевна тут же ее прогнала, Чалка ушла в прихожую и улеглась на свою подстилку, еще долго продолжая озлобленно рычать.
Фиме нравилась еще одна незнакомая ему до женитьбы черта Евгении Евгеньевны: сколько бы гостей ни собиралось, как долго бы они ни засиживалась, после их ухода Женя не ложилась спать и не давала лечь Фиме, пока не будет перемыта, перетерта и убрана вся посуда.
Женя считала бы сложившуюся у них с Фимой семейную жизнь полной идиллией, если бы не два обстоятельства. Во-первых, Фима был абсолютно равнодушен к Жениной дочери и не допускал и мысли о том, что она может жить вместе с ними. Поэтому девочка жила у Жениной мамы и видела свою мать совсем не каждый день, относясь к ее мужу с понятным недружелюбием.
Во-вторых, Женя была совсем не той невесткой, которую хотела бы для своего сына Фимина мама, Ревека Соломоновна; он ее иначе, как Райка, не называл. Лишенная предубеждений Райка не очень огорчалась вольной жизнью сына до его женитьбы, и когда он, конечно же, не посоветовавшись заранее с нею, однажды сказал: «Райка, вот моя жена Женька, она будет жить у нас», она была огорчена. Нет чтобы взять в жены еврейку, ну, на худой конец, русскую, так привел не то армянку, не то грузинку, а с виду – сущую турчанку: горбоносая, лицо смуглая, волосы черные, и курит какие-то длинные не то папиросы, не то ставшие теперь модными сигареты. «Тьфу!» – сплюнула в душе Ревека Соломоновна. Но виду не подала. Просто перестала выходить к сыну и невестке из своей отдельной комнаты, а то и вовсе на несколько недель уезжала к младшему сыну, полковнику-инженеру, служившему в каком-то «почтовом ящике» и женатому на такой же инженерше, еврейские корни которой просматривались на несколько поколений.
А времена пришли тяжелые. То ходили какие-то смутные, казавшиеся неправдоподобными слухи о гонениях на евреев, а в январе словно бомба взорвалась: врачи-убийцы! В трамваях стало страшно ездить – неровен час, вышвырнут на ходу, и на работе одни коллеги-преподаватели смотрели с тщательно скрываемым сочувствием, а другие – со злорадным торжеством; ага, дождались, вот сейчас под корень выведем вашу еврейскую породу! Говорили, что в институтах увольняли преподавателей-евреев, чаще всего пока еще – предлагая написать заявление «по собственному желанию». Михайлову пришлось выдержать жестокий бой на заседании партбюро, где отставник-полковник Слизков требовал от него очистить институт от «агентов Джойнта» (Слизков со смаком выговаривал непривычное ему слово), в первую очередь – от так называемого «философа», которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к преподаванию марксистско-ленинских дисциплин. Но Слизкова не поддержал даже непременный член партбюро, представитель рабочего класса, кочегар-истопник котельной Васильич. Другие члены бюро, преподаватели и лаборанты, может быть, и дрогнули бы под могучим напором отставного полковника, но Михайлов с деликатной осторожностью, как он это умел, употребил весь свой авторитет, чтобы вопрос об «агентах Джойнта» без голосования исчез из повестки дня.
На очередной лекции Фима, как полагалось, начал с того, что осудил «еврейских буржуазных националистов». В аудитории повисла глухая тишина, только один студент, сидевший где-то в середине, радостно заржал: «Так их… всех!», но тут же умолк, получив от соседа локтем по ребрам.
Вечером без приглашения у Фимы с Женей собрались самые близкие друзья. Тягостное молчание никто не хотел прервать первым. Наконец, Изя, положив на стол руки с набухшими венами, глухим голосом выговорил: «Это они… Михоэлса…». Иосиф, нацепивший на пиджак планку с ленточками фронтовых медалей, согнувшись почти вдвое и приложив ладони к вискам, раскачивался и бормотал что-то невнятное. Сын народного артиста, секретарь партийной организации, не стесняясь Жени, матерился страшными словами, а потом заплакал навзрыд. Чтобы унять рыдания, он прерывающимся от душивших его спазм голосом отчаянно запел совершенно не подходящую к случаю песню:
Небо, ельник и песок…».
Прощаясь, гости троекратно, крест накрест, расцеловались с Женей и Фимой. Когда дверь захлопнулась, Женя, сдерживая слезы, проговорила: «Фима, как ты мог, как ты мог?..». Она не сказала, что именно мог ее муж, но и без слов было понятно. Фима, покраснев так, что было видно даже в полутьме, заорал: «Дура! Что же мне, с гранатой под танк бросаться?». Никогда раньше Фима на Женю не кричал. Слезы у нее мгновенно перестали течь из глаз, и она, успокаиваясь, возразила: «Если надо – и под танк».
В вузе, которым руководил профессор, работала, меняя невысокие лаборантские и секретарские должности, молодая женщина, Зоя Ивановна. В Зою были влюблены многие старшекурсники и готовы были предложить ей руку и сердце, но Зоя неизменно отвергала ухаживания поклонников, оставаясь для них скромным идеалом чистой красоты и порядочности.
Зоя, несмотря на молодость, хватила в жизни лиха. Блокадница, она чудом не умерла от голода, единственная среди близких родственников. Может быть, жизнью своей она обязана страшному событию, которое держала в тайне, но которое неизменно всплывало в памяти и мучило неразрешимостью ситуации. Когда им с мамой было совсем плохо и равнодушное дыхание смерти уже легло серой паутиной на их лица, мама, еле волочившая ноги, принесла для Зои маленький пирожок. Зоя понимала, что за этот кусочек жизни мама отдала последнюю остававшуюся у них в семье драгоценность – золотые сережки с чистейшими аквамаринами, и единственные слова, которые Зоя могла произнести, были: «Мама, разделим поровну». – «Кушай, Зоинька, я купила два пирожка и один, ты уж извини, не выдержала, съела по дороге. Ты кушай, а я пойду прилягу, что-то я неважно себя чувствую».
Зоя знала, что это ложь, но ничего не могла с собой поделать. Она долго боролась с желанием проглотить этот маленький пирожок сразу, но неимоверным усилием воли преодолела это желание и стала откусывать понемножку, по крошечке, смакуя и пропитанную каким-то прогорклым жиром хлебную мякоть, и сладковатые крошечные катышки мяса, провернутого, должно быть, на мясорубке. Она уже, растягивая удовольствие, доедала пирожок, когда на зуб попало что-то твердое. Это «что-то» оказалось человеческим ногтем. Зоя уже не раз слышала в бесконечных очередях разговоры о случаях людоедства, о пирожках из человеческого мяса, но все это мало ее трогало, как и другие жуткие россказни, сама жизнь в блокаде была страшнее которых. Она удивилась тому, что ее организм не испытывал отвращения к съеденной человечине, и попыталась исторгнуть только что поглощенную пищу, засунула глубоко в рот два пальца, расцарапала гортань, но истощенный желудок отказывался отдать попавшие в него крохи.
Зоя подошла к маме, но та уже не дышала.
Всю жизнь, даже в самое голодное время, Зоя не могла без ужаса глядеть на пирожки с мясом или ливером и испытывала отвращение к своему организму, который не уберег ее от противного человеческому естеству поступка.
После войны Зоя поступила в университет, но на третьем курсе ее отчислили, как процедил сквозь зубы и.о. декана, «за антисоветскую выходку»; она на лекции осмелилась спросить – куда делся предыдущий преподаватель?
И ее спас профессор Михайлов, без лишних расспросов взяв на работу.
Зоя была выше среднего роста, чуть сутулая, со светлыми волосами и бездонными, голубоватыми и прозрачными глазами. Видимо, в ней смешались два начала – русских крестьян Севера и ингерманландцев, или чухонцев, которые наверняка были среди ее предков. Какое-то неотразимое изящество воплощали в себе и бледность ее строгого, прямо иконописного лица, и тонкость ее хрупких пальцев, не стучавших, а плававших по клавишам пишущей машинки.
Фима не сразу обратил внимание на Зою, но после двух-трех беглых разговоров они поняли, что их беспощадно тянет друг к другу. Зое даже ночью снился бархатный тембр Фиминого голоса, его большие, черные, как сливы, глаза, и даже широкие, как крылья, ноздри его сильного носа. Страсть охватила их так, что Фима растерялся: а как же Женя, ведь он по-прежнему любит ее, он не видит в ней никаких отталкивающих недостатков, и не проходило года, чтобы она не делала от него аборт, но и с Зоей порвать он не только не мог, но и нисколько не хотел. Фима, подзаняв немного денег, купил машину «Москвич», и теперь для встреч с Зоей им не надо было выискивать углы, а они могли выезжать за город, на доставшуюся от «Райки» дачу, когда там не было Евгении Евгеньевны, с обстоятельной серьезностью относившейся к дачной жизни и даже высадившей там на косогоре грядку картофеля «Лорх» и грядку лука.
Однако шила в мешке не утаишь, и о существовании Зои скоро стало известно Евгении Евгеньевне. Как-то, протирая пыль на рабочем столе Фимы (что, впрочем, он категорически воспрещал), Евгения Евгеньевна наткнулась на любительскую фотографию женщины, с которой она, конечно, никогда не встречалась. Женя сразу поняла, что это – она, Зоя, соперница («Смешное какое слово – "со-перница” – это что – образующая взаимную связь, совместимость, сопутствие – по перу? При чем тут перо? Наверное, правильнее будет называть ее "сомужница” или еще проще – "софимница”», – поиздевалась над собой Евгения Евгеньевна). Конечно, Зоя на фотокарточке была моложе нее («Не намного, лет на пять-семь»), красавицей ее трудно назвать, хотя лицо было симпатичным. «На кого она похожа? Сразу и не скажешь – может быть, на Любовь Орлову? Нет, пожалуй, скорее, на Марлен Дитрих – в фильме "Голубой ангел”…».
Сначала Женя растерялась, не зная, как вести себя с изменившим ей любимым мужем, а потом поставила ультиматум: выбирай – либо она, либо я. Фима, конечно, заявил, что останется с женой, но на самом деле выбирать ему вовсе не хотелось. Третий год тянулось это неопределенное состояние, Женя то уходила от мужа, то снова к нему возвращалась, пока, наконец, невольно посвященный в ситуацию Михайлов не решил – отправить Фиму в экспедицию, пусть он там, вдалеке от той и другой женщины, решит, кому отдаст предпочтение. Фима и сам был рад такому выходу, может быть, там, в течение восьмимесячного рейса, сердце и подскажет ему, кто милее.
Конечно, никакого решения в своем длительном рейсе Фима так и не принял. Но, когда он возвратился домой, как-то само собой получилось, что он остался с Женей. Почти каждый вечер у них собирались старые и новые знакомые – актеры, океанологи, философы, какие-то начинающие писатели, даже, наверняка, и сотрудники спецслужб, пытавшиеся искать компромат в каждой компании, где собиралось больше трех человек. Впрочем, на этих сотрудников у Фимы был тонкий нюх, и он изобретательно ставил всякий раз в неловкое положение даже поднаторевшего в стукачестве сотрудника, так что тот вынужден был оставить общество, сославшись на неотложные домашние дела. А гости все приходили и приходили. Приходил заведующий кафедрой, с которым было хорошо выпито, отчего Фима только щурился, а заведующий никак не мог окончательно попрощаться, стоя под низким абажуром, накрывшим его наподобие дурацкого колпака. Приходил с шумливыми товарищами тот самый океанолог, которого Чалка когда-то укусила, но и теперь она злобно рычала и грозно скалила зубы, едва только он появлялся на пороге.
Профессор Михайлов сразу же после возвращения из экспедиции уехал на международный форум океанологов, посетил Музей Кусто, проиграл несколько франков в казино Монте-Карло и даже был принят папой римским, что перед началом визита профессора в Рим стало предметом бурного обсуждения в кружке Евгении Евгеньевны: будет ли Михайлов, член Коммунистической партии Советского Союза, целовать у папы туфлю, что, по Жениному представлению, было обязательной частью ритуала посещения понтифика.
А сама Зоя Ивановна за время отсутствия Фимы много передумала, она решила, что больше не может делить любимого человека с другой женщиной, что уйти от жены к ней Фима не способен – да и вправе ли она требовать такой жертвы? Ей огромного усилия воли стоило не броситься вернувшемуся в институт Фиме на шею, а заговорить с ним как со старым добрым знакомым, чего Фима никак не мог принять, но она мягко от него отстранилась. К этому времени Зоя была восстановлена в университете, перейдя на заочный факультет, много внимания уделяла учебе по специальности «Искусствоведение», что так трудно было совмещать с работой на кафедре, где она перепечатывала на машинке скучную книгу пожилого профессора – заведующего ее кафедрой, да еще по его поручению проверяла «во вторую руку» вычисления по обработке каких-то наблюдений.
Фима, кандидат наук, до сих пор написал только одну маленькую брошюру, изданную обществом «Знание». Брошюра была посвящена какому-то юбилею «гениального труда основоположника» и, разумеется, ее никто и никогда не читал.
В море он, как и положено ученому секретарю, вел дневник экспедиции, и Женя, пролистав его, подала идею написать книжку для старших школьников, выбирающих профессию. Фиме эта идея понравилась, через друзей юности, вместе с которыми когда-то ходил в Дом пионеров, в кружок юных писателей, он вышел на издательство литературы для детей, и вскоре, подписав договор, засел за рукопись. Фактически книжку они писали вдвоем с Женей, что еще больше их сблизило, и так приятно было подержать в руках свой труд с рисунком на обложке, изображающим маршрут экспедиции.
Но Фима понимал, что в экспедиции он приобрел что-то гораздо большее, чем то, о чем он написал в детской книжке. Это «что-то» сначала было неопределенным, бесформенным, и когда он писал уже научно-популярную книжку для массового читателя, он ощутил, что хотя его призванием была отнюдь не океанология – ведь по образованию и образу мышления он был «чистым» гуманитарием! – но что-то лежащее рядом с нею.