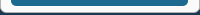Последнее воскресенье (окончание)
* * *
«Папа, ты обязательно должен придти на учредительное собрание нашей партии», – позвонил мне по телефону Леонид. – «Какой такой партии?» – «В поддержку президента». Свое отношение к новому президенту я еще не мог определить; с одной стороны, ему передал власть сам Ельцин, а с другой – все-таки он из КГБ, организации, к которой я, несмотря на ее многочисленные преобразования, никаких симпатий не испытывал.
Масштаб мероприятия поразил меня еще на далеких подходах к Дому офицеров, где должно было проходить собрание. Не только обочины, но и придорожные газоны были заполнены припаркованными машинами, и обычно строгая ГАИ не обращала на нарушения никакого внимания. Тут были и блестящие «Мерседесы» новых русских, и служебные «Волги» областных чиновников, и разношерстица потрепанных иномарок, и покрытые густой дорожной пылью колхозные «газики», явно из дальней глубинки.
Большой зал был наполнен до отказа. Уверенно и независимо держались генеральные директора всевозможных ЗАО, ОАО и ООО, обрамленные эскортом из исполнительных, финансовых и прочих директоров, рангом поменьше; обменивались понимающими взглядами упитанные молодые люди – недавние комсомольские деятели, поджарые предприниматели из армейских политработников; кучковались сотрудники областной, городской, районных и других администраций. Всё напоминало присной памяти партхозактив. Мелькали лица моих бывших студентов – из неизменных троечников. Крохотной тесной группочкой выделялись заводилы митингов поздних горбачевских и ранних ельцинских времен, представлявшие кучку демократических партий, движений и организаций, численность которых, вместе взятых, была меньше, чем количество самих этих партий и движений. Среди них я отыскал глазами высокую фигуру Эдуарда; он возглавлял одну из таких организаций да еще состоял в активе двух других.
Из-за кулис вышел и занял места президиум; мой Леонид оказался в центре, рядом с председательствующим, по другую сторону от которого сопровождающие заботливо посадили какого-то, по-видимому, большого начальника из приезжих. Этот начальник с крупными чертами лица и обширной матовой лысиной походил на откормленного пингвина или забавную надувную игрушку, надутую настолько, что толстые руки оттопыривались от туловища. Что-то он мне напомнил – что именно, я сообразить не мог, но невольно отметил некую симметричность относительно председательствующего в физиономиях Леонида и приезжего начальника.
Речи выступавших были неинтересными, они, как в былые времена, произносились по бумажке и состояли из почти не варьируемых выражений, к тому же, председатель объявлял ораторов по заранее составленному списку. Попытался с места прорваться на трибуну какой-то орденоносный ветеран, но председатель его осадил, предложив «подвести черту». Последним, под бурные аплодисменты большинства собравшихся, слово было предоставлено представителю центра… и я обомлел: председатель назвал фамилию и имя бывшего моего друга Бориса, фактического отца моего Лени! Вот откуда эта показавшаяся мне симметрия!
Выступления Бориса я не слышал; у меня как бы отключился слух. За Леню я не боялся; по взаимному уговору с его матерью Татьяной мы никогда ему не говорили, кто его подлинный отец. Я боялся за себя; я не знал, как себя вести в этой ситуации – подойти мне к Борису или нет, сказать ему что-то или ничего не говорить. После окончания собрания ноги сами понесли меня к Борису, окруженному толпой журналистов и телеоператоров, которые хотели заполучить хоть несколько слов от заезжей знаменитости. Я протиснулся к нему вплотную; он, отвечая на вопросы, надписывал кому-то автограф. Я назвал его по имени и отчеству; он поднял голову и, явно не узнавая, взглянул на меня. Я назвал себя. Борис оживился: «А, Федор, ты тоже с нами?». Но тут же его отвлек вопрос очередной корреспондентки. Протиснувшись через скопление журналистов, я отошел – и отправился домой.
Сказать Борису мне было нечего. Вечером приехал Леонид. Как бы между прочим, поддевая ложечкой варенье из розетки и запивая чаем, он сообщил: «Папа, Галя, меня выбрали руководителем областной организации нашей новой партии». По телевизору в это время шел репортаж о собрании. Вдруг крупным планом показалось мое лицо и то, как я, наклонившись к дающему автограф Борису, что-то ему говорил. Леня удивленно спросил: «Папа, ты что, его знаешь?». Я промычал что-то неопределенное, как бы сосредоточив внимание на клубничном варенье.
* * *
Проснувшись, я еще не открываю глаза, а жду, что под сомкнутыми веками появятся радужные кольца, как когда-то в раннем детстве.
Нет, не появляются. Приоткрываю глаза – вот он, луч, пробивающийся через щелку между штор. В нем, как тогда, в бесконечном хаотическом движении, по немыслимым траекториям то быстрее, то медленнее несутся вспыхивающие крохотными огоньками пылинки. Значит, все нормально, сегодня я еще жив. Можно просыпаться окончательно и вставать.
Уже который год мы с Галей и Машей живем в Германии. Впрочем, Маша вышла замуж и живет отдельно. Они с мужем держат картинную галерею, покупают и продают картины. Доход небольшой, но довольно стабильный. Новомодные художники, творения которых я не понимаю, приносят им свои инсталляции, и они находят что-то им интересное в этих композициях из металла, цветов и предметов домашнего обихода. Бог с ними, как говорится, чем бы дитя ни тешилось…
Следов своей матери я так и не нашел. Однажды раскрыл газету – на первой странице крупная фотография моего старого друга Франца в генеральском мундире. Оказывается, в объединенной Германии его судили как одного из руководителей «штази» и дали три года. Представляю себе, как он выглядит в тюремной камере в полосатой пижаме арестанта!
Я читаю лекции в здешнем университете, рассказываю студентам об истории экономических формаций, особый упор делая на эпоху так называемого развитого социализма. Студенты слушают с удивлением и недоумением: неужели такая нелепица вправду могла существовать?
Доход от университетских лекций небольшой, и я еще занимаюсь коммерческой деятельностью, основав небольшую фирму. Леонид как-то позвонил мне и сказал, что в России большой спрос на оконные комплекты и импортные двери. С местными поставщиками нетрудно было договориться, а сбыт в России обеспечен: новые бизнесмены охотно приобретали пуленепробиваемые комплекты с патентованными замками и скрытыми датчиками совершенной системы сигнализации. Даже пенсионеры на последние рубли ставили в своих развалюхах металлические двери – время-то такое тревожное.
Дело оставалось за названием фирмы. Леонид предложил: «А что тут раздумывать? Так и назовем: "Окна и двери”». Я непроизвольно перевел на немецкий: «Ди фенстер унд ди тюрен». Что-то знакомое. «Позволь, – спросил я сам себя, – откуда же это?». И память откинула меня на шесть с лишним десятков лет назад, я явственно увидел шагающих по польскому гравию немецких солдат, горланящих лихую песню:
«Ёффен ди медхен
Ди фенстер унд ди тюрен…»
Да, надо же, столько лет прошло, а я помню, как сейчас: «Ай варум? Ай дарум!» – «А почему? А потому!».
Вот и жизнь заканчивается. Вот тебе и шиндерасса, бумдерассаса!
Леня позвонил: выходит замуж его дочь, моя внучка, которую я, в сущности, не знал – уж очень она оберегала свою независимость, а я, дед, – человек из другой эпохи.
А какой сегодня день? А сегодня суббота. Значит, можно отдохнуть. Посмотреть телевизор. Я включаю российскую программу. Все-таки проведенную там длинную жизнь не вычеркнешь, как неудачную строчку в черновике. Живешь-то ведь сразу набело.
Показывают оскароносный фильм знаменитого режиссера. Не то чтобы правда, но похоже на правду. Сквозной музыкальной темой проходит всем известная песенка, но ведь я-то ее слышал когда-то совсем с другими словами. Как это с польского?
«Это последнее воскресенье,
Сегодня мы расстанемся,
Сегодня мы разойдемся
На вечные времена…
Это последнее воскресенье,
А что со мною будет, Кто знает?..»
Ничего со мною больше не будет, одна шиндерасса-бумдерассаса. Завтра, может быть, то самое последнее воскресенье…