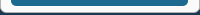Последнее воскресенье (продолжение 2)
* * *
Зэковскую школу я прошел ускоренными темпами. Уже на первой пересылке ко мне подошел парень, примерно моей щуплой комплекции, явно вдохновленный напутствием небольшой группы «блатных», с любопытством наблюдавших за происходящим. Если освободить его речь от множественных «междометий» и перевести на нормальный русский язык, получалось примерно следующее: «Ты, фашист, жидовская морда, мне твои брюки пойдут больше, чем тебе. Так что снимай».
В моем сознании мгновенно всплыли наставления «старого большевика». Как там Абакумов учил? Сначала ошеломить, обескуражить шпиона-диверсанта, а потом уже с ним разговоры разговаривать. И я со всей ненавистью ударил в лицо наглую «шестерку», и тут же – еще раз: «Хочешь шкары мои? Вот они!».
Растирая по лицу кровь и сопли из разбитого носа, парень отступил назад, к своим корешам, потешавшимся над его неудачным выступлением. А я повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. В висках у меня яростно стучали маленькие молоточки, во рту предательски пересохло, но я старался идти медленно, не сомневаясь, что вот-вот получу тяжелый удар сзади – в спину или по голове.
Нет, не только пронесло, но даже я получил определенное место в уголовной иерархии. Обо мне стали говорить: «Федька-жид – битый фраер».
Большинство нашего этапа составляли «фашисты» – осужденные по «политической» статье. «Лагерный телеграф» донес до нас информацию о том, что на следующем пересыльном пункте держали беспредельную власть «авторитеты» – уголовники, живущие по своим воровским законам. В этом лагере беззастенчиво, до подштанников, раздевали пригнанных по этапу. Грабили сразу же, когда зэков в зону запускали, как положено, по одному, через шмон (обыск). При малейшей попытке неподчинения избивали до полусмерти или попросту убивали.
На тайный разговор меня позвали самые безбоязненные заключенные из нашего этапа, как правило, фронтовики. Главное было – чтобы никто не дрогнул, кого-то надо убедить, а кого-то и припугнуть. На том и порешили.
Извилистой серой лентой подошел наш этап ко входу в зону, со всех сторон окруженный конвоирами с винтовками наперевес и проводниками со служебными собаками. Начальник конвоя подал команду: «Стой!». Когда хвост колонны потянулся, прозвучала следующая обычная команда: «Приготовиться к личному досмотру! Слева… по одному… в зону… марш!».
Заключенные легли, кто где стоял: кто в грязь, кто в лужу. Залаяли собаки, натянув поводки; конвойные рассеянно оглядывались; начальник срывающимся голосом завопил: «Встать!», но никто не поднялся. Когда прошли первые напряженные минуты, кто-то из середины лежащих выкрикнул: «Ворота открывай!». Тот же возглас повторил второй, третий заключенный, постепенно возгласы слились в хор, монотонно скандирующий: «Ворота… открывай! Ворота… открывай!». Начальник конвоя, вытащив пистолет, надрывался в крике, но лежащие отвечали все тем же гулом: «Ворота… открывай!». Начальник то забегал в будку КПП, то выбегал обратно – ничего не менялось. Заключенные, казалось бы, готовы были умереть тут, на дороге, в лужах и грязи, но, ни один из них не поднялся. Прошло не меньше часа, пока, наконец, начальник не вышел вместе с каким-то чином из лагерной охраны, и ворота в зону медленно отворились. Начальник, срываясь в дискант, завопил: «Слушай мою команду! В зону… бегом марш!».
Заключенные, начиная с первых рядов, поднялись и побежали – нет, не в зону, а к воротам и забору, в каком-то озверении выламывая доски, подбирая камни, палки – кто что смог. Вооруженная толпа ворвалась в зону, без разбору избивая всех, кто попадался на пути, – в разбитые головы, в кровь, в переломанные руки и ноги…
Слух о нашей расправе с урками пошел по пересылкам и лагерям, опережая наш этап. Блатные передавали друг другу, что лучше с нами не связываться, там «фашисты» такие – оторви да брось, а самый страшный у них – Федька-жид, которому ничего не стоит замочить любого на раз. Эта незаслуженная репутация выручала меня в столкновениях с уголовниками: стоило мне представиться: «Я – Федька-жид», как угрозы в мой адрес сменялись знаками воровского внимания.
Неожиданная встреча ждала меня в одном из лагерей, в который занесла меня зэковская судьба. Сосед по нарам, узнав, что я вырос в Берлине и немецкий – мой родной язык, заметил, что в лагере есть один немец, которого так и зовут – Фриц.
Боже мой, это оказался мой друг по детскому дому – старина Франц! Есть же такая русская пословица: «Гора с горой…». Я рассказал Францу о своих приключениях, а Франц мне – о себе. Тогда, перед войной, его родители – антифашисты были вызваны в Советский Союз, арестованы и, скорее всего, тут же расстреляны; во всяком случае, так он понял из предъявленного ему обвинения – «член семьи врагов народа, германских шпионов». Ему дали срок, потом довесили еще, и, видно, ему так и мотаться по лагерям и тюрьмам. «А знаешь ли ты что-нибудь о Курте?» – «А ты разве не знаешь? Мне даже в лагере рассказали, что была статья о нем. Курт был заброшен в Подмосковье в партизанский отряд, в тот, где Зоя Космодемьянская. Там он и погиб».
Я подумал о превратностях человеческих судеб. Франц неожиданно сменил тему: «Хочешь, я тебя развеселю? Помнишь, к нам приезжал Георгий Димитров? Мы с тобой тогда еще шептались – а где же его товарищи по Лейпцигскому процессу? Так вот, в нашем лагере сидит Благой Попов! Ты знаешь, начальство его выделяет – а вдруг его отправят в его Болгарию строить народную демократию? Там, глядишь, сделают его министром или еще каким начальником. Так вот здесь он удостоился высочайшего доверия – его поставили в хлеборезку! Это тебе не лес валить или урановую руду добывать!».
В лагерях таких заключенных называли придурками. А вскоре и я, битый фраер, сменил свое место в лагерной табели о рангах и тоже стал придурком. Система Гулага была сложным хозяйственным механизмом, функционирующим по всем законам социалистической экономики: план, фонды, лимиты, материальный, стоимостный и трудовой баланс и всякое такое. А руководители лагерной системы, не имевшие ни экономического, ни, часто, вообще какого бы то ни было образования, плохо в этом разбирались, и поэтому грамотный экономист в лагере был, безо всякого преувеличения, на вес золота. Меня даже однажды обменяли, по слезной просьбе начальника одного из лагерей, на двух артистов и одного зубного врача. Я уже был не Федька-жид; иначе, чем Фридрих Самуилович, никто меня не именовал. А льготы я имел совершенно немыслимые для заключенного, вплоть до свободного выхода за территорию лагеря. Впрочем, выходить-то особенно было некуда. Ни на миг меня не оставляло ощущение несвободы, полной зависимости от каприза любого начальника, который мог щедро подать мне на стол корзину с апельсинами, а мог упрятать в ледяной карцер. Холод – это то, от чего я все время больше всего страдал в северных лагерях. Не помогали ни выделенные мне за особые заслуги байковые кальсоны, ни шерстяные носки, которые я надевал по три сразу на ногу, ни шапка-ушанка из кроличьего меха. Я мерз, и мне казалось, что долго я не протяну, и меня, незаменимого в лагерной системе экономиста-плановика, скоро бросят в неглубокий ров, куда уже сбросили окостеневшие на морозе трупы доходяг.
Не прошло и года со дня смерти Сталина, как до нас неведомыми путями донесся слух, что главные обвиняемые по «ленинградскому делу» реабилитированы. Я напряженно ждал и своей реабилитации, и действительно, меня вызвали на комиссию, обладавшую, по-видимому, высокими полномочиями, и объявили, что мера наказания мне изменена: оставшуюся часть срока я буду отбывать не в исправительно-трудовом лагере, а на поселении под надзором органов МВД. Не очень меня обрадовала эта новость, но все-таки жить не за колючей проволокой.
Поселение я отбывал там же, где расположен лагерь, и на работу ходил туда же, куда и раньше, уже официально занимая должность старшего экономиста и получая полную зарплату за свою работу.
На поселении я сдружился с Борисом, который отбывал срок там же, но по статье хозяйственных преступлений. Вдаваться в подробности своей «посадки» он не любил, но в наших разговорах из обрывочных фраз складывалась примерно такая картина.
Борис, штурман по профессии, работал вторым помощником капитана, отвечающим на судах за груз. То ли они перевозили неучтенный груз, то ли попросту контрабанду, но, в конце концов, попались, а участвовавший в этих махинациях капитан все свалил на второго помощника. Мы встречались обычно у его подруги Тани, работавшей в местной поликлинике. Я, когда мог, приносил спирт, но пил только Борис, да Таня, притворно морщась, опрокидывала пару стопок. Я же не переносил ни спирт, ни редкую в наших местах водку, а сухого вина тут сроду не бывало.
Борис был удачливым рыбаком и понимал толк в рыбных блюдах, которые Танечка готовила на керогазе, я же к рыбе был равнодушен и мечтал о хорошем куске телятины, которую мне когда-то готовила мама. Странно, что мы с Борисом сблизились при такой разнице вкусов.
Должно быть, это произошло потому, что Борис обладал житейской сметкой, умел починить все, что ломалось, зато в вопросах политической жизни он был дуб-дубарем. Он помогал мне обустроить мое убогое жилье, а я, больше домышляя, чем владея достоверной информацией, просвещал его и насчет ареста Берии, и насчет провозглашенной Маленковым линии на производство «товаров народного потребления», и о смещении самого Маленкова, и о появившихся в газетах намеках на враждебность культа личности марксизму-ленинизму. Как ни странно, будущее показало, что если я и ошибался, то только во второстепенных деталях.
Это была настоящая идиллия: мы втроем сидели за столом, я витийствовал насчет экономической теории, Борис, не перебивая, слушал, время от времени доливая в свою и Танину стопку, а Таня то поглаживала его руку, то тормошила его растрепанные волосы.
Мне самому Таня была симпатична – своей податливостью, что ли, мягким блеском серых глаз, и не будь Борис моим другом, я бы в нее обязательно влюбился. Я дней десять не появлялся у Тани, занятый составлением очередного отчета, а когда пришел, Таня встретила меня вся заплаканная. То, что она сообщила, потрясло меня.
Борис давно хлопотал о досрочном освобождении, и наконец-то его ходатайство было удовлетворено. Он наскоро собрал вещи и зашел к Тане только чтобы забрать какую-то находившуюся у нее безделицу. Таня спросила его: «А как же я?» – «А что – ты? Ты свободна. Ты же знаешь, что дома меня ждут жена и сын. Не могу же я их бросить. А ты как-нибудь устроишься».
Со мною Борис вовсе не попрощался.
Я попытался утешить Таню, но мои попытки были вовсе бесполезны. Она то затихала, закусив нижнюю губу, то снова пускалась в плач. «Ну что попусту плакать? Бориса этим не вернешь». – «При чем тут Борис! Ты разве не видишь – я беременна! Уже четвертый месяц!».
«Канн нихт зайн! – невольно воскликнул я по-немецки. – Впрочем, почему же не может? Любовь любовью, а потом от этого рождаются дети».