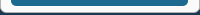«Одиссея капитана Радыгина (продолжение 7)
* * *
«За что?» – поинтересовался Анатолий. «За психологическую несовместимость с начальством», – ответил Леонид. «Ишь, веселый», – подумал Радыгин.
Все ближе-ближе день великий,
И под немолчный звон церквей
В священный гимн сольются клики
Поднявших меч богатырей.
Воспрянь, народная стихия,
Проснись, угасший дух веков.
Стряхни, свободная Россия,
Вериги каторжных оков.
Стихотворений я написал мало, зато уж расплатился за них по полной. За первое же мое стихотворение – басню о Хрущеве – меня исключили из комсомола и из университета. Впрочем, нет; недавно я еще сочинил – то ли стихотворение, то ли песню – "Психическая атака". Хочешь послушать?» – «Валяй!».
Леонид, несколько смущаясь, изобразил аккорд невидимой гитары и запел негромким речитативом.
Поручик выпьет перед боем
глоток вина в походной фляге.
Он через час железным строем
уйдет в психической атаке...
Красивый жест, игра дурная...
А Русь – на Русь, и брат – на брата.
Добро и зло, земля родная,
ты перепутала когда-то.
Падет поручик. Алой змейкой
метнется кровь из губ горячих –
подарок русской трехлинейки –
кусок свинца ему назначен…
И я пишу девиз на флаге,
и я иду под новым флагом.
И я в психической атаке
немало лет безумным шагом.
И я иду по вольной воле,
по той земле, где нивы хмуры.
И мне упасть на том же поле,
не дошагав до амбразуры…
Намного лучше сокамерники понимали друг друга, когда Анатолий читал Леониду свои стихи, а тот в ответ поделился замыслами прозаических произведений.
И опять Леонид, сидя, как и раньше, ноги калачиком, ударял по невидимым струнам невидимой гитары, и напевал какую-то странную песню, мелодия которой, вначале ни на что не похожая, вдруг трансформировалась в «Прощание славянки»:
За гибель церквей,
За плач матерей,
За стон Колымы
Идем на бой с драконом мы!
«Это какого же ты, леня, дракона имеешь в виду?» – «да все того же, Толя, коммунистического». – «А ты же говорил, что с диссидентами тебе не по пути?» – «Это смотря кого считать диссидентами. Если разных там модернистов всех мастей, которые объявили войну православию, исторической религии русского народа, – то уж увольте от таких попутчиков. Я тебе всерьез скажу как выходец из сибирской глубинки и истинный христианин, хоть и некрещеный: именно патриархальный уклад жизни российской провинции сохраняет те ценности, которые приведут к возвращению к России исторической и построению христианского государства, в идеале – православной монархии».
«Вот те на, – подумал Анатолий. – Я моряк, и всю жизнь рассчитывал только на себя, а не на какие-то там высшие силы. Какая тут, черт побери, монархия. Там, где угнездилась Вера, – Логике (а следовательно, справедливости) места нет!». А леонид, ничуть не смутившись, продолжил: «Православие и российская государственность – вот не подлежащие сомнению святыни. Есть тысячелетняя Россия. Есть ее уникальный исторический опыт. Да, я патриот своей родины, и не стыжусь этого, более того – горжусь этим».
«Ну, Леня, я не стану тебе ничего доказывать, но мне представляется, что тобой владеет чудовищное заблуждение. Это ложь, что твои святыни только здесь. «Фауста» Гете ты читаешь не в ущерб Пушкину, а Верди и Россини не безразличнее тебе, чем Глинка. Люби свою родину, но не забывай, что не было в истории последних веков захватчика, которому бы удалось столь успешно и столь жестоко расправиться с чужими ценностями и десятками миллионов своих детей, как нашим землякам.
Да, для меня родина – человечество (хоть еще во многом глупое), а столица моя – земная ось – проходит у Потомака, я люблю Питер – но это любимый дом. Не более. Если бы я мог, я предпочел бы записаться оклахомцем или вирджинцем, увы, нет прав. А категории гражданина мира официально тоже пока что нет. И не прими меня за примитивного, остервенелого русофоба из тех, что считают русских за какую-то вырождающуюся породу приматов».
* * *
Слух о «самолетном деле» проник за стены Владимирского централа практически одновременно с публикацией сведений о нем в советских и зарубежных СМИ. Суть этого дела заключалась в том, что группа лиц, в основном еврейской национальности, не получивших разрешения властей на выезд в Израиль, решила захватить небольшой пассажирский самолет АН-2 и на нем перелететь за границу. Соответствующие органы откуда-то получили информацию о готовящемся побеге, и заговорщики были захвачены на аэродроме местных линий вблизи Ленинграда. По приговору суда они были приговорены к длительным срокам заключения, а двое из них – к смертной казни. Вмешательство влиятельных мировых политиков вынудило власти оставить жизнь всем осужденным.
Радыгин был потрясен полученными известиями. После его попытки побега – безумного поступка бунтаря – одиночки – впервые ее попыталась повторить организованная группа людей. Конечно же, Анатолий знал руководившего подготовкой побега Эдуарда Кузнецова, по обвинению в антисоветской деятельности отсидевшего в мордовском лагере и Владимирской тюрьме семь лет. Кузнецов привлек к участию в операции «Свадьба» (таким нехитрым кодом называли ее заговорщики) своих товарищей Федорова и Мурженко, недавних сокамерников Радыгина, которые за ночи и дни общения с ним во Владимирской тюрьме переняли его идеи, превратились в его единомышленников. Анатолий мог с гордостью считать их продолжателями его дела, последователями его замыслов.
«если бы я, – говорил себе Анатолий, – снова собирался идти через советскую границу, то в поисках партнеров я бы непременно завернул в Ригу за Кузнецовым и в Лозовую за Аликом Мурженко».
Однако способ, избранный беглецами, вызвал у Анатолия большие сомнения: «Конечно, они вправе распоряжаться своей жизнью и рисковать ею; но как же дети, взятые в побег? А экипаж самолета подвергался тоже чрезвычайной опасности, хотя заговорщики вроде бы все предусмотрели: было намечено связать первого и второго пилотов, уложить их в спальные мешки. Заранее заготовили кляпы и – чисто еврейская пунктуальность – коврики для пилотов, чтобы они не простудились, лежа связанными на холодной земле».
Участники побега уже несколько лет ходатайствовали о выезде в Израиль, но разрешения законным путем им не давали. Они заявили на суде, что единственное, чего они добивались, – возможность выехать на историческую родину. Если для большинства заговорщиков Швеция была лишь промежуточным пунктом по пути в Израиль, а политика, по их словам, их вообще не интересовала, то украинец Мурженко и русский Федоров намеревались, попав за границу, просить политическое убежище.
Попытка любой ценой вырваться в Израиль и реакция мировой общественности вынудили советское правительство хоть чуть-чуть ослабить запрет на выезд евреев из страны. Эмиграция потекла еще не ручейком, то хотя бы узенькой струйкой, и дошедшие об этом слухи породили у Анатолия надежду хотя бы после выхода из заключения вырваться в свободный мир. Но, как он понимал, чтобы добиться права на выезд в Израиль, нужно, чтобы тебя, как минимум, признали евреем. Анатолий стал добиваться, чтобы в документах ему сменили фамилию на Шульман – фамилию матери – и национальность тоже записали по матери. Тюремная администрация ответила категорическим отказом, не помогла даже трехнедельная голодовка. Последние месяцы и дни заключения тянулись медленно, как будто бы какой-то начальник над лагерями и тюрьмами переводил стрелки часов назад.
В журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» (Париж – Нью-Йорк, 1971, № 101-102), еще во время пребывания Радыгина в тюрьме, был напечатан венок сонетов Анатолия:
Пылают у моих усталых ног
Листки стихов...
Я жадно жгу бумагу.
Я жадно пью отравленную брагу.
Я от невзгод и бедствий изнемог.
Но мне кузнец неведомый помог.
В сиянии горнов он подобен магу.
Он вытянул изломанную шпагу
В кинжальный ослепительный клинок.
И я опять спешу в привычный путь.
Преодолеть гремящие пороги
На узкой, но устойчивой пироге
Вооружен для схватки, грудь на грудь.
И снова не манят меня ничуть
Камин покоя и костер дороги.
* * *
12 сентября 1972 года после отбытия 10-летнего заключения Радыгин освободился из Владимирской тюрьмы. в его глазах не было радости, только одна безмерная усталость. на его сжатых губах – только горечь утраченных надежд молодости. а на плечах – тяжесть накопленного в зонах мордовских лагерей и в каменном мешке Владимирского централа ненужного теперь опыта допросов и шмонов, карцеров и БУРов, голодовок и прелого запаха несвежих тел в общих камерах…
 У ворот тюрьмы его ждала Алла. Они никогда раньше не виделись и познакомились по переписке: Алла искала способы помочь политическим заключенным и писала им письма; Анатолий оказался самым близким ей по духу, и их переписка постепенно переросла в большое чувство.
У ворот тюрьмы его ждала Алла. Они никогда раньше не виделись и познакомились по переписке: Алла искала способы помочь политическим заключенным и писала им письма; Анатолий оказался самым близким ей по духу, и их переписка постепенно переросла в большое чувство.
Радыгин не знал подробностей, но главное в своей новой жизни он представлял себе ясно и четко:
Когда придет неотвратимый срок
И грохнет гром в моем краю посконном.
Солдаты мы, но будет нелегко нам
Дослать патрон и отвести курок.
Провал измены черен и глубок.
Философ от него ползет к иконам,
Фрондер к ярму, республиканец к тронам,
Я в правоте ужасной одинок.
Потопчут, растерзают и сомнут
За свой родной, отечественный кнут.
Да! Я живу с врагом в одной берлоге.
Прости, Россия-мачеха, прости
У нас не будет общего пути,
Когда меня поднимут по тревоге.
* * *
Из небогатого перечня мест, в которых Радыгину разрешалось жить под надзором после освобождения, он выбрал небольшой город Тарусу в Калужской области. может быть, потому, что оттуда до Москвы было недалеко, или потому, что до недавнего времени там жил Константин Георгиевич Паустовский, которого Анатолий любил как писателя и уважал как человека. И еще: в Тарусе жил под надзором Анатолий Марченко, бескомпромиссный диссидент, в свое время получивший срок, как и Радыгин, за попытку перейти границу, но уже с Ираном, и отсидевший по четырем судимостям и в мордовских лагерях, и во Владимирском централе.
В тихой провинциальной Тарусе Радыгин ни на минуту не оставлял мысли об отъезде из СССР и без конца писал заявления с требованием разрешения на выезд в Израиль. Однако заявлениями сыт не будешь, и Анатолий с неожиданным для самого себя добрым чувством вспоминал дни, когда он во Владимирской тюрьме не отказывался от работы, а выходил в цех со столярной бригадой. Теперь он ладил на продажу табуретки, и хоть большого спроса на них не было, все-таки какой-никакой, а заработок.
В июле 1973 года Радыгину была разрешена эмиграция в Израиль. Деньгами на дорогу ему бескорыстно помог Анатолий Марченко, и. наскоро собравшись, он вместе с женой Аллой и ее матерью вылетел в Австрию по израильской визе. В Вене их поразило то, что от самолета в терминал их сопровождала полиция, но в этот раз она не конвоировала, а охраняла их
Прибыв на Землю Обетованную, Анатолий не столкнулся с чем-либо таким, чего не ожидал встретить, будучи знакомым с Эрец Исраэль по книгам и рассказам товарищей по заключению, кроме, пожалуй, августовской жары, которая не заканчивалась и в сентябре, когда столбик термометра даже в тени зависал на запредельной отметке. После промерзших досок бараков и холодного камня стен тюремной камеры невозможно было привыкнуть к непрерывно выделяющемуся поту – откуда только в человеке столько влаги берется!