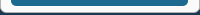Каждый день я прихожу на пристань
I
Невьянск – небольшой уральский город.
Коренные местные жители говорили на «о»: «Чо, почо да нечо».
Поздней осенью мокрый снег летел наискосок, желтый в свете редких уличных фонарей. А в морозное зимнее утро – столбик термометра опустился ниже пятидесяти! – из печных труб поднимались вертикальные столбы сизого дыма.
Днем и ночью грохотали на стыках колеса товарных вагонов, увозящих на запад, на фронт продукцию местного военного завода.
Тогда, на третьем году войны я, мальчонка неполных десяти, познакомился с семьей Смиренских, каким-то неведомым мне образом заброшенной сюда из Франции. Старшая дочь, Мими, – года на два младше меня, а младшая, Жаннин, – еще малышка, лет пяти-шести. Полное имя Мими было Марианна; мама сестричек, Фаина Марковна, как-то сказала, что ее назвали так в честь статуи Французской республики. Интересно – назвать живого человека в честь статуи! «Она была очень красивым ребенком, и врач-акушерка посоветовала дать ей это имя, имя красавицы Марианны», – пояснила Фаина Марковна. А полное имя Жаннин – Жаннин-Валери, она так названа в честь какого-то Жана.
Конечно же, я с детской непосредственностью влюбился в старшую сестричку, так непохожую на моих одноклассниц, знакомых еще с детского сада, и даже посвятил ей стихотворение, из которого в памяти сохранились только две строчки:
«Твоя родина – Париж.
Мое сердце, ты горишь!..»
Смиренские занимали две комнаты в двухэтажном деревянном доме с оштукатуренными стенами, который находился рядом с механическим техникумом на улице Пролетарской. Отец девочек, Дмитрий Михайлович, работал на механическом заводе, уже не ассенизатором, как сначала, а шофером, а мама преподавала где-то, кажется, в техникуме, немецкий язык.
Дома у Смиренских члены семьи говорили между собой по-французски. Фаина Марковна по моей просьбе пыталась дать мне уроки французского, но дальше двух слов – «ле ливр» – книга и «ле пюпитр» – парта – дело не пошло.
Истинное наслаждение доставляло мне разглядывание марок великолепной коллекции, привезенной Дмитрием Михайловичем из Франции. Он и сам любил показывать свои альбомы, которые так волновали меня, начинающего филателиста. В самом деле, где увидишь, например, марки Вольного города Данциг, о существовании которого я вообще не подозревал. Или серии красивых швейцарских марок с надпечаткой «Для юношества» (так, во всяком случае, я понял ее значение). Я как раз недавно прочитал книжку «Марка страны Гонделупы» и был очень разочарован, что среди многих тысяч марок коллекции Дмитрия Михайловича не было ни одной марки этой таинственной страны.
Мне трудно было понять, почему в коллекции были не только отдельные, штучные, что ли, марки, но и целые их листы; почему, со слов Дмитрия Михайловича, негашеные марки ценились выше, чем гашеные, но зато марки на конвертах с гашением первого дня – выше, чем негашеные. Я постигал прописные истины филателиста: что марки нельзя брать руками, а только специальным пинцетом, что коллекционные марки нельзя наклеивать на листы, а следует прикреплять с помощью специальных наклеек-шарниров, а еще лучше – помещать их в альбомы с прозрачными полосками – кляссеры.
Дмитрий Михайлович показывал мне толстенные книги – каталоги, в которые занесены описания и изображения всех выпущенных в мире марок, учил пользоваться зубцемером, объяснял, что для включения марки в коллекцию ее зубцы не должны быть повреждены и что марку с зубцами нельзя с помощью ножниц превращать в беззубцовую.
Уже намного позже я понял, что Дмитрий Михайлович, предусмотрительно позаботившись о будущем, все свои имевшиеся во Франции денежные средства вложил в покупку коллекционных почтовых марок. Хорошо разбираясь в филателии, он понимал, что, в отличие от франков, почтовые марки не подвержены инфляции и даже, наоборот, со временем возрастают в цене.
 Дмитрий Михайлович в моей памяти остался добрым и сильным – недаром в молодости он был азартным спортсменом, даже участвовал в велосипедных гонках «Тур де Франс». У него был хороший голос и музыкальный слух, мне понравилась строгая и чеканная мелодия песни, которую вместе с девочками он пел на французском языке. Ее русский текст я узнал намного позже: «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте…». Еще он любил петь «Варяга»: «Плещут холодные волны, бьются о берег морской…».
Дмитрий Михайлович в моей памяти остался добрым и сильным – недаром в молодости он был азартным спортсменом, даже участвовал в велосипедных гонках «Тур де Франс». У него был хороший голос и музыкальный слух, мне понравилась строгая и чеканная мелодия песни, которую вместе с девочками он пел на французском языке. Ее русский текст я узнал намного позже: «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте…». Еще он любил петь «Варяга»: «Плещут холодные волны, бьются о берег морской…». Марсель Роллэн - Дмитрий Смиренский на велогонках "Тур де Франс", конец 20-х годов
Семья Смиренских была для всех, кто ее знал, примером благополучной семьи, в которой родители были связаны друг с другом и с детьми прочной, не показной любовью. Несуетливо деловитая Фаина Марковна, невысокого роста, с бездонно глубокими глазами цвета бархатной южной ночи, казалось, безмерно обожала супруга, а он платил ей тем же, но мне, ребенку, еще не дано было понять, что за этой привязанностью стоят годы испытаний и жестких проверок на прочность.
А до Франции было гораздо дальше, чем до Луны, которая, круглая, как блин, выкарабкивалась по вечерам из-за горы Лебяжки.
II
Жаннин показывала мне свою коллекцию стеклышек, которую она хранила в коробочке, склеенной из оберточной бумаги старшей сестрой. Бумага была самого низкого качества, из нее в разных местах торчали кусочки дерева – вынь щепочку, и получится дырка. Зато стеклышки были одно к одному: Темные, почти не прозрачные, и светло-коричневые – это от аптечных склянок, зеленоватые – от бутылок с шампанским, синие – неизвестно от чего. Мими тщательно следила за сестричкой, чтобы она не порезалась сколом, который острее лезвия папиной бритвы. Моя мама о чем-то разговаривала с Фаиной Марковной, скорее всего, насчет шитья, в чем они обе были большие мастерицы, а я рассказывал девочкам о страшном событии, очевидцем которого был сегодня утром.
На виду у всего города сгорел человек. Взрослые говорили, что завод, находившийся в самом центре города, нельзя было ни на секунду останавливать – это привело бы к недовыполнению задания по выпуску продукции, так необходимой для фронта, для победы. Поэтому, когда потребовалось устранить какую-то неисправность на верху опоры линии высоковольтной передачи, было принято решение сделать это без отключения электричества. Монтер, забравшийся на опору, по-видимому, допустил какую-то ошибку, и его поразило насмерть электрическим током. Там, наверху, осталось его горящее тело. Хлопья его праха несильный ветер разносил над городом, а отключить электричество без разрешения какого-то очень высокого московского начальства директор завода не имел права. Пока это разрешение не было получено, жители города, в том числе и я среди других мальчишек, с ужасом смотрели на это страшное зрелище вплоть до того времени, когда другие монтеры после отключения тока забрались на опору и сгребли в мешок то, что осталось от тела их товарища.
Напуганная Жаннин забралась ко мне на колени, прижалась своим худеньким тельцем и задремала, а мы с Мими невольно вслушались в разговор Фаины Марковны с моей мамой, который они вели у остывших чашек чая. Собственно говоря, это был уже не разговор, а монолог Фаины Марковны, начало которого мы упустили.
«…Итак, я с детьми на советском пароходе "Мария Ульянова”, который шел из Гавра в СССР. В Испании шла гражданская война, и все пассажиры, кроме нас, были испанцы. Мне выдали паспорт: "Митина Ф.М., родилась в Киеве в 1910 г.” На самом-то деле я на три года старше, и родилась я в Сороках, в Бессарабии, которая потом была под Румынией. Все документы из Румынии, все фото Мити с его друзьями надо было уничтожить, что я и сделала. Приехали в Ленинград, нас посадили на поезд. Вдруг в поезде с двух сторон вагона сели двое, в руках у них были газеты "Последние новости” (это милюковская газета, издававшаяся в Париже). Я испугалась: опять шпики за мной следят. На вопрос: "Вы Смиренская Фаина Марковна?” я не стала отвечать. "Вы не бойтесь. Вы в СССР. Ваш муж Дмитрий Михайлович уже в Харькове, уже работает”. Только тогда я успокоилась. "Вы с детьми поедете в Занки, в дом отдыха харьковского завода. Отдохнете три месяца, а затем поедете к мужу”.
В Занках я пробыла три дня. Все, кроме еды и постели, получали  деньги. Я от денег отказалась, сказала, что у меня муж в Харькове, который уже работает. Я очень скучала по Мите. Мите было запрещено поехать в Занки, так как боялись провокации». – «Какой?» – спросила моя мама. Фаина Марковна ничего не ответила и продолжила рассказ. «Я отказалась от гостеприимного дома отдыха и поехала в Харьков к мужу. 10-го мая 1939 года. Митя с братом Сашей и его женой Шурой встретили нас. Какое счастье! Я свободна! Вся семья вместе!
деньги. Я от денег отказалась, сказала, что у меня муж в Харькове, который уже работает. Я очень скучала по Мите. Мите было запрещено поехать в Занки, так как боялись провокации». – «Какой?» – спросила моя мама. Фаина Марковна ничего не ответила и продолжила рассказ. «Я отказалась от гостеприимного дома отдыха и поехала в Харьков к мужу. 10-го мая 1939 года. Митя с братом Сашей и его женой Шурой встретили нас. Какое счастье! Я свободна! Вся семья вместе!
 деньги. Я от денег отказалась, сказала, что у меня муж в Харькове, который уже работает. Я очень скучала по Мите. Мите было запрещено поехать в Занки, так как боялись провокации». – «Какой?» – спросила моя мама. Фаина Марковна ничего не ответила и продолжила рассказ. «Я отказалась от гостеприимного дома отдыха и поехала в Харьков к мужу. 10-го мая 1939 года. Митя с братом Сашей и его женой Шурой встретили нас. Какое счастье! Я свободна! Вся семья вместе!
деньги. Я от денег отказалась, сказала, что у меня муж в Харькове, который уже работает. Я очень скучала по Мите. Мите было запрещено поехать в Занки, так как боялись провокации». – «Какой?» – спросила моя мама. Фаина Марковна ничего не ответила и продолжила рассказ. «Я отказалась от гостеприимного дома отдыха и поехала в Харьков к мужу. 10-го мая 1939 года. Митя с братом Сашей и его женой Шурой встретили нас. Какое счастье! Я свободна! Вся семья вместе! Д.М. Смиренский с дочерьми Жанной и Марьяной. Май 1940 г., Харьков
Мы понемножку начали устраиваться. Кое-что купили из мебели. Комнату обставили, шторами разделили на две половины, и стало уютно. Митя поступил на курсы усовершенствования инженеров. Ведь у него не было никаких документов об образовании. Чтобы получить диплом инженера, надо было в вечернем институте учиться четыре года. Митя успел закончить только два курса и получил диплом техника. Началась война, и опять разлука».
Фаина Марковна остановилась на минуту. Видно было, как тяжело ей даются эти воспоминания. Мама не торопила ее. Они отпили по несколько глотков холодного чая, а затем Фаина Марковна продолжила.
«Сентябрь 1941 года. Уже воюют более двух месяцев. Мы уверены, что Харьков не сдадут, немцев скоро отгонят. А вообще считали, что немцы на нас не нападут. Сталин целовался с Риббентропом после заключения торгового договора. "Мы только вчера отправили несколько эшелонов с мясом и маслом в Германию”, – так говорил Саша 21 июня, в субботу, когда у нас были гости. Я сказала: "Сегодня мы отправили мясо и масло, а завтра немцы направят на нас пушки. Гитлеру верить нельзя”. В ту же ночь немцы бомбили Киев.
Как только началась война, в Харькове было остановлено строительство. Все перешло на военные рельсы. Наши отступали. Митя домой с завода не приходил. Мы стали копать щели, куда прятались во время бомбежки. Когда объявляли отбой, мы, взрослые, выходили из щелей, чтобы детям что-нибудь приготовить для еды. Я говорю "мы" – женщины; мужчины тушили пожары. Дети одиннадцать суток жили в щелях, а когда выходили из щелей, они были как котята, не могли смотреть на свет.
Ночью я с другими женщинами дежурила, ходили группой, с противогазами. Днем приходилось ухаживать за больными детьми. Жанночка заболела корью, а затем коклюшем. За ней последовала Мими. Ходила с ними на улице, прислоняясь к стенам, так как бомбили и днем и ночью.
Завод, где Митя работал, эвакуировал жен и детей ИТР, и Митя решил, чтобы мы тоже эвакуировались. В три часа ночи он приходит с Шурой и Марусей (женой брата Саши и ее сестрой), чтобы нас отправить в эвакуацию. Шура и Маруся протестовали: Мими на еврейку не похожа, Шура возьмет ее к себе, Жанночку отправят в деревню к другой сестре, а меня спрячут. Ведь немцы долго в Харькове не задержатся. "Митенька, куда ты угоняешь свою семью, ведь они уедут в неизвестность”, – так Шура причитала, со слезами умоляя Митю нас не "угонять”. Митя настоял на своем. Он остается в ополчении, он, как фельдшер, будет лечить раненых, а мы должны уехать.
Начались сборы. Сшили мешки и начали закладывать вещи. Было два больших мешка, сшитых из штор, четыре чемодана, швейная машина и двое еще не оправившихся от болезни детей. Когда мы уже сидели на грузовике от завода, нам принесли два мешка с продуктами. Мы попрощались с Митей. "Береги детей! ” – были его последние слова.
У вокзала стояло множество грузовиков. Когда будет поезд, никто не знал. Наконец, подали теплушки. У поезда давка. Митя бросил детей в двери теплушки, кто-то их подхватил. Затем бросили багаж. Наконец, и я поднялась на нары. В теплушке было два ряда нар. Мужчина, который подхватил детей и багаж, расположился с двумя детьми и женой на втором этаже. Познакомились: Бергман Давид, Вера – жена, Оля и Маша – дети.
В вагоне были почти одни старики, старухи и женщины с детьми. Эвакуированные из Харькова и из Ростова. Надо было выбрать старосту и помощника, так как на каждой остановке надо было выходить – получать суп, хлеб и наполнять ведра кипятком. Выбрали Бергмана (ему было около сорока лет) и меня. Вера следила за нашими детьми. Теперь я себе не представляю, как я, такая непроворная, могла бегать с ведрами супа или кипятка через рельсы, через составы.
Поезд часто останавливался. Куда едем? Говорили, что в Семипалатинск. Двигались то вперед, то назад. Одиннадцать суток в пути. Немцы бомбили дорогу, но в наш состав не попали. Зато разбили состав из Киева, который шел с детьми из детдома. Из вагона мы видели валявшиеся на насыпи подушки, одежду, другие вещи, и изуродованные тела детей. Долго еще стояла перед глазами эта ужасная картина.
Наконец, приехали. Город Сердобск, Пензенской области. Все эвакуированные уже разместились на частных квартирах, только я с детьми оставалась в школе на полу. Никто не хотел сдавать квартиру. Пошла в горсовет. "У нас евреев не любят!” – сказал мне председатель горсовета. Что делать? Запасы кончаются. Мими все еще кашляла. Пока не найду квартиру, не могу устроиться на работу. Не работая, не могу получить хлебные карточки.
Вместе с нами была эвакуированная семья Никитиных. Он русский, она еврейка. Никитин – Иван Кузьмич – взял мой паспорт и искал квартиру на наши две семьи (у них тоже было двое детей). Он взял домовую книгу у одной женщины, которая сдавала квартиру, пошел и прописал нас, и мы переселились. Мария Ивановна, хозяйка, была поставлена перед свершившимся фактом. Но, кроме денег, мы должны ее снабжать дровами.
Пришлось мне с Иваном Кузьмичом ходить в лес за дровами. Валенок у меня не было. Из детских одеялок сшила бурки себе и детям. А зима была снежная. По метровому снегу еле передвигались, одолевая сугробы. Ноги, руки замерзали. Никитин был веселым человеком: "Давайте, – говорил, – станцуем камаринскую!”. Еле передвигала ноги, а он мне согревал руки. До сих пор я благодарна этой семье. К сожалению, когда в первый раз освободили Харьков, они из Сердобска уехали.
У Марии Ивановны я с детьми занимала одну комнату в четыре метра, комнату в шесть метров занимали Никитины, комнату в шесть метров занимала жена военного с мальчиком. А хозяйка с сыном-хулиганом и внуком занимала маленькую кухню, где была большая русская печь, которая служила постелью. Дочь хозяйки с мужем-евреем была на фронте, и внука она все время обижала как "жида”.
А я ждала известия от Мити. Каждый день кто-нибудь из эвакуированных ходил на почту – узнать, нет ли писем кому-нибудь. Известий не было. Харьков сдали. Куда эвакуировался завод? Куда девались наши мужья? На этот вопрос ответа не было никому.
Как только мы устроились, я стала искать работу. Так как у меня была ручная машина, я нашла работу в мастерской, где шили военное обмундирование. Работали с восьми утра до восьми вечера (час на обед). Детей я устроила в детсадике. Забирала детей и продолжала шить в мастерской частной клиентуре. Я была обеспечена сахаром, маслом, медом и т.п. Дети были одеты, обуты, сыты.
В нашу мастерскую приезжал за готовым обмундированием часто один офицер, инженер из Киева. Как-то дети играли около мастерской, а я еще работала. Когда я вышла из мастерской, он играл с детьми. Мы познакомились. Его жена и такие же две девочки погибли при бомбежке. Так мы и подружились. Как-то раз он мне сделал предложение. Хотел оставить мне аттестат. Он все меня уверял, что если бы Митя был жив, он бы давно нас нашел. "Я буду верна Мите до конца своей жизни! Митя нас не мог забыть и даже с того света он даст мне знать!”. Так мы продолжали дружить, и он жил с надеждой, что рано или поздно я стану его женой.
Когда Никитины уехали, я с детьми должна была оставить квартиру Марии Ивановны. Переселилась временно к одной знакомой, которой я шила много. Спали мы втроем на полу. Мими простудилась, стала сильно кашлять. Доктор ей запретил спать на полу. Нашла маленькую комнату в двух километрах от города. В комнате стояла одна железная кроватка, куда я поместила Мими, а я с Жаннин устроилась на полу. В другой комнате поместилась хозяйка с двумя девушками. Хозяйка оказалась очень хорошей, услужливой старушкой.
Немцы подходили к Сталинграду. Мы полдня работали, а полдня расчищали землю для аэродрома. Возвращались поздно вечером. Домой из садика мы шли через лес (я, такая трусиха, тогда не боялась). Жанночку несла на руках, а Мими рядом, держала ее за ручку. Я много говорила детям об отце: "Вот война закончится, и папа к нам приедет…”
Однажды я заблудилась и пришла домой в 10.30. Наташа (моя знакомая) видела, что меня долго нет, взяла детей из детсада к себе, накормила и отвела домой. Как это дети не капризничали, не плакали? Война и детей научила быть более выносливыми…
Мими стало все хуже и хуже. В поликлинике мне дали адрес одного врача из Киева. Прослушав легкие Мими, он сказал, что у нее, возможно, начинается туберкулезный процесс. Он мне дал направление в рентген-кабинет.
В шести километрах от Сердобска находился военный госпиталь. Военный врач, доктор Сегал, оказался очень хорошим человеком. Посмотрев снимок, он сказал, что у Мими туберкулеза нет, но лечиться надо, и дал мне бутылочку с какой-то коричневой сладкой жидкостью. Несмотря на то, что мне было тяжело нести Мими на плечах шесть километров, обратный путь мне показался более близким и легким. Доставала я также собачий жир. Мими начала поправляться. Сколько хороших людей я повстречала на своем пути во время эвакуации! Сколько русских и еврейских людей мне помогали в такое тяжелое для меня время!
Прошел почти год. Как-то раз в мастерскую пришла одна моя знакомая из Харькова и сказала, что на мое имя есть на почте письмо "до востребования”. Попросилась у мастера сходить на почту во время работы. На почте мне письмо не хотели выдать, так как у меня при себе не было паспорта. Я попросила девушку показать мне конверт. Почерк Мити! Я его почерк, четкий, каллиграфический, ни с каким смешать не могу. Я разрыдалась. Девушка мне отдала письмо без паспорта. Митя нас нашел! Я сразу же написала своему знакомому офицеру об этом радостном известии. Он тоже был рад за меня.
Как же Митя нашел нас? Всех женщин, у которых не было детей, а также молодежь, которая еще не подлежала мобилизации в армию, мобилизовали рыть окопы, далеко за Сердобском. Были мобилизованы две сестры Волошины. Их мужья были преподавателями института, в мастерских которого работал Митя. Мы с Волошиными подружились в Сердобске. Из окопов они сбежали и сели в ближайший эшелон с солдатами. Эшелон остановился в Свердловске. Обе сестры направились на центральный почтамт послать письма мужьям. Как и все мы, они тоже писали куда-то. Одна из них повернулась (что значит инстинкт!) и… увидела своего мужа. Он ее не узнал. Обе они были грязные, в куртках-ватовках, в ватных штанах с котомками на плечах. Старшая из них вскрикнула… Встреча с мужем, о котором она даже не знала, где он! Какое счастье! Он повез часть заводского оборудования из Харькова в Красноуфимск, а часть была отправлена в Невьянск, где был Митя. Приехал в Свердловск по делам завода, зашел в главпочтамт написать жене письмо. Куда? В неизвестность!
Она поехала к нему в Красноуфимск. На столе лежала открытка от Мити: "…Если вы узнаете что-нибудь о вашей жене, сообщите мне…”.
Волошина, как была еще одета, сразу написала Мите открытку, что мы находимся в Сердобске. Все здоровы. Фаня работает… Получив эту открытку, Митя отправил мне тысячу рублей и письмо. Деньги шли из города в город, а до нас не дошли; мы получили их обратно уже в Невьянске. На письмо Мити я сейчас же ответила. О том, что я получила письмо от мужа, узнали сразу все эвакуированные и мои сердобские друзья. Все стали писать Мите, узнавать о судьбе своих близких.
А Митя нас встретил в Челябинске, его для этого специально с завода отпустили на целую неделю.
Вот теперь и собрались мы все здесь, на Урале».