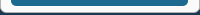Одиссея капитана Радыгина (продолжение 5)
* * *
Накопив опыт в создании двух первых венков сонетов, Анатолий наиболее основательно и самокритично работал над написанием третьего венка. Каждую строчку он прокатывал несколько раз, добиваясь наибольшего смыслового соответствия своему замыслу. Он пробовал слова на звучание, пронизывая их аллитерациями на «р» и «л», когда, по его замыслу, поэтическая строка должна звучать торжественно, и подбирая для конца строки слова, заканчивающиеся на «ж» или «ш», когда нужно было выразить нежное, приглушенное чувство. Одним он остался недоволен − что в катренах (четверостишиях) использовалась то перекрестная, то опоясывающая рифмовка, что было отступлением от желаемой строгости единообразия. «Впрочем, − оправдывал себя Анатолий, − это вряд ли кто-то заметит».
Много было терзаний по поводу того, как озаглавить венок сонетов. Первоначально поэт дал ему название − «Женщине, отставшей в пути». Он еще раз перечитал написанное и осознал, что вышел далеко за рамки намеченного замысла: «Наверное, более подходящее название − "Побег". Вот, прямо по тексту:
Я вырвался из гибельных тенет −
Из круга, где предательство и плаха, −
В пространства, где ни подлости, ни страха,
Где ни измены, ни забвенья нет».
Не зря он когда-то писал о Гагарине. Вот она, космическая тема. И неспроста она возникла тут: он хотел быть гражданином мира, но это в реальной жизни, а здесь, в пространствах поэтического воображения, он возвысится до беспредельности Космоса, здесь он − гражданин Вселенной:
На острие фотонного меча −
Еще недавним стартом горяча −
Летит в огнях косого звездопада,
Тоскливо и пронзительно крича,
Сквозь буйство астероидного града
Моей ракеты гулкая громада, −
И Солнце угасает, как свеча…
Но вот теперь разворачивается тема любви, которой не преграда беспредельность Космоса − как в земной жизни любовь не остановят ни колючая проволока мордовских лагерей, ни каменные стены Владимирского централа:
…Сквозь каждый осязаемый предмет
В моем стальном ковчеге толстокором,
Сквозь бледные локаторы комет −
Глядят с мольбой, любовью и укором
Твои глаза. Все чище и сильней.
В пути бездонном без ночей и дней
Они одни мне пытка и отрада.
В потоке гипнотического взгляда,
В невозвратимой нежности твоей
Я растворился. Слёз и слов не надо.
И как итог бесконечного страдания − роковое осознание невозможности соединиться с любимой, безнадежности космического масштаба:
…Она пришла, жестокая расплата
За нашу глухоту к шагам весны,
За поиски, ненужные когда-то,
Мерила истин и чужой вины.
Теперь пути и судьбы решены,
Все, что забыли − отнято и взято,
Теперь Земля моргает виновато −
Уже звездой шестой величины…
…Меня Земля не примет из полета −
Отступник непрощенный, я сгорю
В тяжелом саркофаге звездолета.
Тебе я только вспышку подарю,
И нитью серебра прошьет зарю
Последняя неслыханная нота.
И вдруг, вроде бы безо всякой внутренней связи с космической страстью, возникает материально земная тема родного города, тема живых примет милых сердцу мест, где когда-то родилась растоптанная теперь грязными сапожищами любовь:
Еще звучит, еще пророчит что-то
Приморский ветер, пожиратель миль,
Еще вдыхают истуканы Клодта
Балтийской ночи водяную пыль,
Еще несет Адмиралтейский шпиль
Высоких парусов тугие шкоты,
Еще брусничным запахом болота
Пропитан город − каменная быль:
Его камней невиданная гемма,
И взбитый штормом облачный плюмаж,
И бронзовый поэт, и Эрмитаж… −
Извечная лирическая тема,
Моя неповторимая поэма,
Та, что тебе теперь не передашь…
Апофеозом высокой трагедии звучит магистрал − завершающий венок пятнадцатый сонет:
Вскипает плазма в бешенстве распада.
В косматых снах оранжевых планет,
Где ни измены, ни забвенья нет,
Я растворился. Слез и слов не надо.
Она пришла, жестокая расплата:
Умрут приборы и померкнет свет,
Написан заключительный сонет,
Исполнена последняя соната.
Пронзая звездный голубой витраж
Лучом прощальным горестного взлета,
Еще звучит, еще пророчит что-то
Та, что тебе теперь не передашь, −
Последняя неслыханная нота,
Последний угасающий пассаж.
* * *
Когда они встретились взглядами в первый раз – он, конечно, запомнил. Она пришла на заседание литобъединения, которым он руководил – то ли Люда ее привела, то ли Юля, – села во втором ряду и рассматривала его изучающе и внимательно – какой он, Владимыч? Но уже в следующий раз, когда собрались для проводов его в очередной выезд на Камчатку, он не мог найти других слов для описания произошедшего чуда, кроме эпитетов «легкая, благоуханная», и тут же пожалел об их затертости и невыразительности. А ее лицо? Сплошные любящие и сияющие глаза, только какое мучение, что здесь, среди людей, нельзя все время смотреть в них, не отрываясь, и он словно ослеп и оглох на долгую минуту, не видя окружающих и не слыша обращенные к нему речи.
А у него тогда руки были связаны, и, как на зло (а, может быть, на счастье?), он то дело и сталкивался с нею, уже любимой, но еще почти незнакомой, чуть ли не лицом к лицу – то в магазине, то на почте, то просто на Невском. Эта встреча, возле кинотеатра «Баррикада», была как ножом по сердцу: она шла навстречу, одинокая на холодной и пустынной улице. а он не мог подбежать и схватить ее, любимую и неизвестную, на руки, потому что шел с прежней, уже почти оставленной, но с которой еще не все было порвано.
Они объяснились, наконец-то, во время поездки к пушкинским местам. Оба они были связаны обычными житейскими условностями и обязательствами, и на шоссе у могилы Пушкина пообещали не изменять своих отношений друг другу, какие бы перемены и испытания их ни ждали; подлинная любовь не считается с законами брака, официального или «гражданского».
С чем-то особенным в их отношениях был связан пушкинский жетон из Михайловского; Анатолий сохранил его при всех перипетиях судьбы, при шмонах и голых обысках на пересылках, в лагере, в психушке и в тюрьмах.
Из мордовского лагеря Анатолий пишет своей возлюбленной:
«…я живу от почты до почты… после почти двухлетней разлуки так хочется вновь соединить свои мысли с твоими, твои горести и надежды забрать себе и отдать свои… ты последняя живая нить, которая связывает меня с прошлым, может быть, последняя горькая любовь, которая, может быть, и останется, как в легендах, платонической и недолюбленной».
Анатолий огорчен тем, что любимая считает его оценки действительности «ошибками» и «заблуждениями»; но в этих «заблуждениях» он еще больше укрепился: «этот союз, который продолжает быть империей, советских, которые с начала перестали ими быть, социалистических, которыми они сразу не были, и, наконец, республик, которые остались рабскими колониями, был и остается государством, против которого я буду бороться, пока мне кишки не намотают на гусеницы; не было в истории войн (даже обе мировые вместе взятые), не было в мире нашествий и оккупаций, которые унесли бы столько жертв, сколько легло в советских застенках».
Радикализм Анатолия совсем не был присущ его возлюбленной. Ей было не просто трудно – невозможно – совместить антиэстетический образ «кишки на гусеницах» с обликом того красавца, Владимыча, с которым она обменивалась шуточным приветствием из доброй сказки Джанни Родари: «Бриф, бруф, браф!». Нет, она совсем не такая, какой ее домысливает Радыгин, его любовь обращена вовсе не к ней, а к некому фантому, существующему лишь в воображении любимого. Она пишет Анатолию: «Давай на этом остановимся, пусть мы останемся в доброй памяти друг друга такими, какими мы были тогда, в Михайловском. Прощай, любимый, все хорошее на свете имеет конец, и поэтому я говорю нашей любви: "Аминь"».
Получив это письмо, Анатолий пытался внушить себе, что его любимая поступила правильно, что он не имеет права ее мучить, заставляя еще долгих семь лет ждать, когда его выпустят на свободу – да и свобода ли это будет? Время меняет людей, и кто знает, какими через эти годы будут и он, и она? Как ни жесток удар, но еще жестче осознание того, что он сам должен был сделать первый шаг к разрыву и освободить ее от мучений. Два тяжелейших дня он терзался сомнениями в своей и ее правоте и неправоте, когда пришла телеграмма, что она едет к нему в Мордовию. Все умозрительные построения мгновенно рухнули и сменились новыми мучениями – разрешит ли свидание лагерное начальство? И как вытерпит любимая унизительное ощупывание лягушачьими лапами Надьки-обыскницы?
* * *
Строптивый заключенный уже до чертиков надоел этому самому начальству, оно давно убедилось в том, что мытьем – заключением в БУР и другими ужесточениями лагерного режима – его не взять, так почему же не попробовать катаньем? Это испытанная тактика – воздействовать на заключенного, показав ему пряник – свидание с близкими людьми, а насчет того, что пряник отберут, если он будет по-прежнему неправильно себя вести, и объяснять не надо, сам догадается.
Казалось бы, после свидания все наладилось, изменилось, и снова общение по переписке:
«…Жду твоих весточек, пусть коротких, пусть всяких, только ласковых.
…когда пришло твое письмо от пятого мая, я брал его с дрожью в руках, боялся, что это будет вроде того, где был "аминь".
Милая, я жду твоих писем и тебя. Если твое желание приехать будет равно моему желанию видеть тебя здесь и проводить тебя моей до конца, то ты приедешь».
Моей до конца… Однако, когда любимая снова приехала в Мордовию вместе с матерью Анатолия, свидание разрешили только матери. Анатолий пишет:
«…еще несу твое тепло с февральской встречи, но сейчас, когда тебя не пустили, я себя чувствую гнусно обворованным и говорю начальникам, что если у меня были к ним только общественно-политические счеты, то теперь прибавились личные.
…когда я вспоминаю твое "аминь" – такая вдруг беспредельная, холодная, безжизненная пустыня, что ценности все меркнут. Девочка моя, я так растроган твоим письмом, родная, – реши "железно и бесповоротно" не приезжать – и приедь! Реши «железно и бесповоротно» разлюбить меня – и люби. Я все-таки ужасный эгоист, но, понимая это, все-таки кричу, как тогда: "никому не отдам!" Реши "железно и бесповоротно" порвать – и стань моей, моей мыслью и добротой, моей волей и нежностью! Стань! Я как малый ребенок, который возмущается, что Новый год не наступает тогда, когда ему хочется – сразу! Нет ведь – только послезавтра!».
Увы, жизнь не знает простых, «линейных» путей решения сложных задач. В отношениях между Анатолием и той, которую он называл «девочка моя», произошел крутой поворот. Заключенный мордовских лагерей выбирал выражения погрубее, стремясь обидеть ту, которую любил. Даже упомянул Постникова – начальничка из мордовских лагерей, который имел какое-то отношение к разрешениям свиданий, и Сорокина, литкружковца, который, как он считал, был автором доноса о готовившемся побеге в Турцию:
«Октябрь 1965. Мордовия
К печальной удаче, я не успел отправить большое письмо, пожалуй, самое умное, глубокое и взволнованное, какое я в жизни написал когда-либо. Я даже сделал официальное предложение. Увы, вчера принесли твое от 20-го, и я понял, насколько я переоценил все в нашей близости. Не пиши мне больше, спасибо за всю прошлую заботу.
Прощай, комсомолочка, живи, щелкай шестеренками, ковыляй по ленинскому пути с постниковыми и сорокиными.
Ах, как горько и больно, но пусть это будет мой последний шрам.
Аминь».
Вместе с этой запиской он отправил фотографии – вещественное доказательство рухнувшей любви. Сохранил у себя только тот, пушкинский жетон как последнюю надежду, как неизвестно зачем сохранившийся спасательный жилет на судне, уже оставленном экипажем.
Но стара, как мир, истина, что любовь не вписывается в какие-то раз и навсегда установленные рамки и структуры. ей ничего не стоит разрушить выстроенные отношения бесповоротно, до самого основания, и на жалких руинах вновь возвести величественное здание всепобеждающего чувства.
Потребовалось полтора года лагерной зоны и камеры Владимирского централа, чтобы после окончательного, казалось бы, разрыва Анатолий отправил новое письмо.
«…Милая, я так рад, счастлив и пьян от того, что меня полюбила такая женщина, какое это ослепление и сладкая боль! Честно говоря, я раньше считал литературным штампом выражение о том, что "ни дня, ни часа без мысли о тебе", еще более честно признаюсь, раньше и тебе не очень верил, а теперь сам влюблен весомо и неотступно, действительно ни дня, ни часа без мысли о тебе... Потерять тебя мне кажется сейчас чудовищным.
Родная, я не заковываю тебя, ты будешь свободной всегда, даже если ты станешь моей и нарожаешь детей, свободна ты и сейчас, и если я посчитал себя вправе разругаться с тобой из-за политики, то я ни слова не посмею сказать, если ты решишь, что больше не в силах ловить "журавля в небе", хотя для меня не будет горше потери. Ты мне тоже нужна как воздух (прости за банальность), я могу задохнуться без тебя, но теперь нет ценностей и святынь, ради которых я свернул бы со своей дороги. Будешь моей спутницей – я буду счастлив, горд и буду нести свою правоту, не будешь – буду угрюм, одинок, но шагов не замедлю, с ноги не собьюсь... Люблю… настолько, что не могу писать об этом ни в прозе, ни в стихах… и мне кажется, что такую Пенелопу мне не заменит уже никто».
Прошел еще год, и еще, и, казалось бы, уже ничто не может разрушить возведенный ими заново замок любви, доброты и нежности.