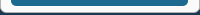Одиссея капитана Радыгина (продолжение 3)
* * *
Сентябрь 62-го. Прохладная ленинградская осень. В конце прошлого года вышла книжка − «Океанская соль», чуть не сотня страниц, издательство солидное − «Советский писатель», тираж немалый − 4500 экземпляров! О книжке одобрительно отозвался сам Прокофьев, руководитель ленинградской писательской организации, верный проводник партийной линии, неизменный делегат партийных съездов, удостоенный высших наград и премий.
Александра Андреевича затронули первые же строчки в книжечке молодого поэта:
Я знаю усталость черной работы,
Тяжкий путь и нелегкий груз,
Я знаю вкус нелегкого пота −
Горький вкус и соленый вкус.
«Это по-нашенски, по-рабоче-крестьянски, − оценил прочитанное классик соцреализма, − не то что всякие там "треугольные груши"».
Анатолию тут бы возрадоваться, но он, трезво оценивший свое сочинительство как военно-морскую и рыбацкую чушь, сам назвал свою книжку убогой, этаким уходом в сторону от поэзии и от совести. радыгин испытывал мучительную раздвоенность: «Мой успех у Прокопа и прочих отталкивал от меня настоящих, таких, как Виктор Соснора, Глеб Горбовский, Александр Морев, а я, всей душой к ним тянувшийся, все-таки не лез на рожон, надеясь, что ЧК оставит меня в покое…»
* * *
Раздражала висевшая поперек Невского растяжка: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». − «При каком коммунизме? − негодовал Радыгин. − При нынешнем, тюремно-казарменном? Во всем мире люди свободно передвигаются между странами, а на наших воротах повешен огромный замок, и нам, идиотам, предлагают молиться на эту несвободу как на высшее достижение коммунистической цивилизации!
Лазуркин тут встретился. Важный такой, заведует каким-то торгом. Спрашивает − как, что, − вроде бы мы с ним корешевали. И даже обиды на него я не почувствовал. А когда уже попрощались, вдруг говорит: "Не все от меня тогда зависело…". А я уж давно это осознал. Не жуликоватый майор с командным голосом был против меня, а вся эта система, в которой он был ничтожным винтиком…».
Радыгин вдруг ощутил, что он не может больше жить в этой стране, которая по праву рождения оказалась его родиной. Пусть все − да, да, все, кто вокруг него, − принимают как неизбежность заточение за колючую проволоку государственных границ, но он не все, ему, гражданину мира, невыносимо пребывание в этом узилище («Слово-то какое − "узилище"!» − подумал он на ходу), он просто физически больше не может терпеть.
в «Кафе поэтов» на Полтавской Анатолий встретился с Сашей Моревым. Они, в общем-то, были мало знакомы, а тут оказались за одним столиком. Слушать очередного самозваного гения было неинтересно, они постепенно разговорились.
Анатолий вдруг почувствовал неистребимое желание излить душу.
− Валить надо, Саша, − больше не могу.
− Куда валить?
− За бугор, конечно. Душит меня родина-мачеха, я как будто бы пытаюсь пробить стену лбом. Пробить не пробил, стена-то каменная, только шишки набиваю.
− Ну и как ты думаешь валить? Самолет захватить или какую-нибудь рыбацкую шхуну?
− Вот то-то и оно, в этом вся закавыка. Угонять самолет − это ниже моего достоинства. такие уж у меня офицерские представления о чести: нельзя рисковать жизнью других людей. Насчет шхуны мне, моряку, следует подумать, но вряд ли что получится. Погранцы наверняка засекут своими локаторами. Нет, Саша, тут нужно что-то другое…
− А ты об этом поменьше говори, даром, что мы в кафешке, тут и столы могут уши иметь.
«Это верно, − подумал Анатолий, − с чего это я разоткровенничался? Сорокину чуть не плакался в полу пиджака, а кто такой Сорокин? Даром, что бывший зэк, и то по уголовке. А, может, он там «куму» стучал? Да нет, не похоже, такая фигура, прямо атлет, хоть скульптуру с него ваяй… Впрочем, при чем тут его фигура?». И уже собеседнику:
− Прощай, Саша, если что, не поминай меня лихом!
* * *
В городе Владимире в 1783 году по указу императрицы Екатерины II была построена тюрьма для особо опасных преступников − «арестантов, обличенных в краже, грабеже и мошенничестве». первый каменный тюремный корпус был возведен по указанию Николая I, а при Александре II отстроили еще один корпус – для политзаключенных.
В 1906 году она стала называться централом (центральной тюрьмой). В ней содержали в основном политических заключённых − террористов и революционеров.
При советской власти Владимирская тюрьма с конца 20-х годов предназначается «для содержания особо опасных государственных преступников», по большей части репрессированных по политическим мотивам. Из-за резкого увеличения численности заключенных был построен третий корпус.
После войны во Владимирском централе сидели военнопленные − высшие чины германской армии, включая фельдмаршалов Паулюса, Клейста и Шрёдера, японские генералы. Заключенными централа были такие известные люди, как монархист Василий Шульгин, принимавший отречение от престола императора Николая II, бывшие руководители внешней разведки Судоплатов и Эйтингон, организовавшие убийство Троцкого, сын Сталина Василий Иосифович, певица Лидия Русланова, киноактриса Зоя Федорова.
В 60-е годы во Владимирскую тюрьму начали попадать известные диссиденты и правозащитники.
Владимирский централ − это массивной кладки тюремные корпуса, соединенные между собой расположенными на высоте переходами. Это несокрушимые стальные двери, колючая проволока, охрана на вышках с совершенной системой сигнализации и связи, «небо в крупную клетку» − внутренний дворик для прогулок с решеткой над головой и серым асфальтом под ногами, сквозь который не пробивается ни травинки. Общие камеры − восемь на восемь или восемь на шесть шагов, двухъярусные койки, неизменная параша у двери. Теснота, безнадежность.
Заключенным разрешалось отправлять одно письмо в месяц, получать раз в полгода пятикилограммовую посылку, свидания только с ближайшими родственниками два раза в год по 30 минут, делать покупки в тюремном ларьке на 2 рубля 50 копеек в месяц. Булка сдобного хлеба стоила тогда 22 копейки, как и литр молока, килограмм сахарного песка − 90 копеек, пачка сигарет «Прима» − 14 копеек.
За нарушение тюремного режима применялись такие наказания, как водворение в карцер, запрещение передач и свиданий, лишение ларька, книг, переписки.
* * *
− Тут у нас в соседней камере новичок обозначился. Тюремный телеграф, конечно, передал: Радыгин Анатолий, статьи 70 и 64, «антисоветская агитация и пропаганда» и «измена родине».
− Статьи тяжелые, для таких по совокупности даже минимальный срок − «червонец».
− Ну, к нам, во Владимирскую крытку, по мелочам не сажают. Вам не приходилось слышать, чем этот Анатолий отличился?
− Всех деталей я, конечно, не знаю, но общих чертах могу нарисовать. Самое главное обвинение − попытка побега за границу. Радыгин этот, значит, моряк из Питера, лейтенант, демобилизованный по сокращению вооруженных сил. Его по «пункту пятому» зажимали: мама, что ли, у него еврейка. Он тыкался и туда, и сюда, но на приличную работу нигде не берут, в загранплавание не пускают, а какой он моряк − без визы?
Вот он и решил рвануть за кордон. За разрешением на выезд, скажем, в Израиль, он не обращался, знал, что это без толку, только лишнее внимание к себе привлечешь. Вот он и решил бежать в одиночку. На следствии допытывались, с кем он состоял в заговоре, а ему нечего было сказать − ни помощников, ни сообщников не было.
Способ он придумал нестандартный, сказано, моряк − он и есть моряк.
Спрыгнуть с борта судна вблизи чужеземных берегов − риск непомерно большой: вода в Балтийских проливах или у островов Японии холодная, даже тренированный пловец сможет продержаться в ней недолго, да еще попасть надо как-то в эти проливы.
Анатолий выбрал другой рискованный вариант: пересечь границу вплавь. Он отправился в Батуми, чтобы оттуда, с пляжа, доплыть до открытого моря, где уже никакая ЧК не достанет. А потом направиться к берегам Турции. Он считал, что такой марафонский заплыв ему по силам.
− И где же его тормознули?
− Чего не знаю, того не знаю. Намекали, что у него дружок был, какой-то слесарь, что ли, так же, как и сам Радыгин, крутившийся в литературных кругах Питера. Анатолий вроде бы намекнул ему, что собирается делать ноги из родных пенатов, а тот стукнул куда следует. Так что задержать могли еще на берегу, а могли и в воде спектакль разыграть.
− А как статьи такие тяжелые на него навесили?
− Это разговор отдельный. Следователь у него был грузин, который сразу сообразил, какое счастье ему привалило. Это в Батуме-то, где самым серьезным было дело о краже ящика мандаринов одним соседом у другого. Уж тут-то следак расстарался, все провел честь по комедии. И свидетельские показания с погранцов снял, и в психушке подследственного месяц продержал. Ну, само собой, никакого сдвига по фазе у него не обнаружилось. Но и сам подследственный вел себя, надо сказать, неблагоразумно, отчего и срок получил раз в пять больше, чем можно было предполагать. Ни на какой контакт со следствием не шел, грузину этому говорил все, что о нем думает, а на суде целую обвинительную речь произнес, словно Георгий Димитров на лейпцигском процессе.
Начал, конечно, с ленинского фанатического характера, воздал Ильичу должное как создателю тюрьмы народов со всей коммунистической блажью. насчет Сталина особенно постарался. Ну, а на Никите потоптался вдоволь и с большим удовольствием, обозвал его хряком с лицемерным и беззастенчивым умом. А потом уж и вовсе разошелся. "Нет, − заявил, − в мире такой юридической категории, чтобы оценить бесконечную цепь преступлений вашего строя перед всем человечеством, перед покоренными народами и в первую очередь перед своим… не было в мире нашествий и оккупаций, которые унесли бы столько жертв, сколько легло в советских застенках. Не было на свете государства, которое уничтожило бы самый цвет своего крестьянства, рабочего класса и интеллигенции, которое бросило бы без оружия под колеса враждебной военной машины лучшие кадровые армии. проводя гигантские военные операции, это государство не выручило из кольца гигантский город, брошенный умирать от смольнинской безалаберности, которой не допустил бы любой лейтенант интендантской службы"».
Так что 70-ю статью честно заработал.
Три года он отгрохал в мордовском лагере, в Потьме. Ни на какие уступки администрации не шел. От работы отказывался, одиночки и БУРы для него был как дом родной − на пайке хлеба в четыреста грамм да на воде голимой. Исхудал, отощал, но каждое утро − зарядка. Да еще, чудак, французский язык изучал. Английским-то он владел еще с училища. Вот и отправили его как особо опасного преступника к нам, во Владимирский централ.
* * *
Из писем Радыгина времен заключения в мордовском лагере (1964 − 1966) (здесь и далее выдержки из писем А.В. Радыгина приводятся по публикации в журнале "Звезда", 2006, №3).
«…мечту об ослепительной океанской робинзонаде надо если не оставить, то отложить, и, видимо, надолго. И я "терпим", я заботлив и даже нежен с людьми, которые медленно умирают здесь за чистую совесть и высокий гуманизм, а с другими буду нетерпим, а если придется, то и беспощаден».
«…Я сам себя не узнаю, настолько мир прояснился вокруг меня, настолько я узнал цену людям, миру и фальшивым ценностям».
«…Я сейчас с ужасом думаю, какая масса людей занимается перекатыванием чурбанов, отдает жизнь и талант делам, которые не стоят даже обдумывания. Я здесь похоронил для себя массу авторитетов. Я прочувствовал пустоту и ложь огромного большинства философских и литературных фигур, научил себя быть выше страха перед мнимыми очевидностями… И я продолжаю жадно впитывать философию и историю, литературу и языки, много и тщательно пишу сам».
«…Я даже сейчас занялся чтением Библии и Евангелия, упаси бог, я не стал верующим или ханжой, но сейчас меня очень интересует то, что вдохновляло художников, музыкантов и поэтов две тысячи лет. Я и раньше знакомился с этими ценнейшими произведениями литературы большой человеческой глубины. Но не чувствовал их глубины и мудрости. Повторяю − ничего общего с мистикой или религией».
«…Здоров ли? − Здоров, но тощ, как вобла, вставил несколько зубов взамен выпавших и выбитых. Виски и затылок уже в серебре, довольно паршивой пробы. Читаю всякую всячину: древние классики, Гегель, Фейербах, Ницше, Библию и пр. Перечитываю заново Достоевского и периодику».
«…Меня здесь считают гораздо хитрее и опаснее, чем я, наверное, есть. При моих переводах и перевозках принимались особые меры, конвой для меня усиленный, надзор персональный, я знаю уже двух "стукачей", которые за мной постоянно следят (а скольких не знаю?)».
* * *
Чтобы выжить в тюрьме, надо неотступно придерживаться принципов, выработанных жестокой практикой естественного отбора. Прежде всего, непрерывная умственная работа, а она поглощает время и мысли при занятиях иностранным языком. Анатолий поставил перед собой цель прежде всего овладеть французским. Он отчитывается в письмах:
«Сейчас заканчиваю последнюю адаптированную книжку на французском. Следующая "Земля людей»" Экзюпери − подлинник»;
«Продолжаю упорно заниматься, Мопассана в подлиннике уже читаю, почти не глядя в словарь, пользуюсь в основном словарем по идиомам и пословицам. Попала мне шлея под хвост - через полгодика, когда освою французское чтиво (и буду продолжать), намерен заняться новым языком и изучением своеобразной литературы, истории и философии, а также, конечно, языка и письменности, какого вы думаете? Не падайте в обморок – японского»;
«Удивляюсь, что вы ничего не упоминаете о японских пособиях… жду, кроме того, если будет, пришлите итальянский разговорник (но обязательно с русской транскрипцией)»;
«Английским я займусь с Нового года, когда полностью добью французскую грамматику и перейду по французскому на "голое чтение";
«К Новому году добью до конца французскую грамматику. Журналы и газеты читаю без запинки, книги тоже легко, пишу, хоть и с ошибками, на всякую "бытовую тему"... но говорить - ни бельмеса! У вас "на воле" и радио можно держать на Париж или на Брюссель, и пластинки, а у меня та же история будет и с английским, и, конечно, с японским…».
И, наконец, уже в 1971 году:
«Французского сейчас уже полгода не беру в руки, занимаюсь английским и еще одним, очень старым, таким старым, что дальше некуда, боюсь, что он мне пригодится. Жалею, что масса времени в прошлом ушла на так и не выученный итальянский и японский».
«Очень старый язык» − это иврит: к концу тюремного срока Радыгин стал задумываться об эмиграции в Израиль…
А еще важно поддерживать на должном уровне и физический тонус:
Анатолий пишет: «Я сейчас по-прежнему бодр и здоров, похудел, правда, против лагерного, но это и понятно - не у тещи на блинах, а в остальном все хорошо, воздух чистый, утром и вечером обливаюсь холодной водой, не нервничаю, не скандалю, короче говоря, все идет по моей программе и гораздо лучше, чем в Мордовии… Каждый день получасовая прогулка, иногда бывает и часовая», однако тут же добавляет: «но это для хороших мальчиков. В хороших мальчиках я пока не ходил, дальше посмотрим».
«Хорошие мальчики» − это те заключенные, которые выходят на работу. Анатолий систематически отказывался от работы, за что попадал в карцер. Наконец, и он не выдержал такого жесткого противостояния требованиям тюремной администрации:
«Во-первых, хочу тебя обрадовать - я вышел на работу и переведен сегодня на нормальный режим, буду теперь и питаться лучше, и гулять больше, правда, я жертвую восемью часами занятий. но... без сахара и голодный, я в эти восемь часов делал меньше, чем в нормальной обстановке за два часа, − слабела память, одолевала слабость и сонливость. Конечно, я просчитался и не учел, что кроме философии и языкознания есть еще одна наука − физиология, которую мои "оппоненты", как оказалось, знают лучше меня».
Восемь часов «без сахара и голодный» −это очередная отсидка в одиночке. Однако даже для такого целеустремленного человека, как Радыгин, регулярное пребывание в карцере не проходит бесследно:
«…я сейчас сам стремительно рассыпаюсь "на запчасти". Врачиха сказала, что ей крайне не нравится моя кардиограмма, мои анализы, и вообще она обещала на днях водворить меня в лазарет. Я и сам себе не нравлюсь крайне − каждый вечер головные боли и адская боль в челюстях... давление растет угрожающе. Тонус очень плохой, уже две недели почти не занимаюсь, читаю с трудом, работается плохо, да и общая обстановка невеселая.
Погода у нас стоит сопливая, но при моем камерном образе жизни мне и дождь со снегом не страшен, и солнышко не радует».
В этот раз удалось выкарабкаться, спасает стальная воля заключенного:
«Здоровье мое выкидывает со мной странные фокусы. Вот уже месяц, как меня почти не беспокоит давление, почти месяц без капризов работает сердце. Сейчас (особенно с посылки) совсем сыт, морда просит кирпича или даже шлакоблока, а тело остается сухим, как щепка. Кроме того, морда желтее, чем у всех…
Мерзнуть я не мерзну совсем, гуляю, правда, мало, но о причинах расскажу когда-нибудь лично. Сейчас работаю, стал себя чувствовать бодрее, и воздуха больше, но все занятия пошли черепашьим шагом».