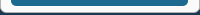"Нарвская застава" времен Новоселова
Началось все это довольно давно в маленьком городке, от которого до Ленинграда поездом было три дня пути. К очередной октябрьской годовщине была вывешена школьная стенгазета; в ней мое внимание привлекло стихотворение со строчками, в которых как-то особенно, словно журчание бегущего по камушкам горного ручья, чередовались звонкие согласные «эр» и «эль»:
…На красный гранит мавзолея,
На черный его лабрадор…
Под стихотворением стояла подпись: «Н. Новоселов». «Конечно, это опечатка, − подумал я. − Надо − «А. Новоселов», ведь редактор стенгазеты − Толя Новоселов из девятого «б». Но, чтобы он стихи сочинял, да еще такие, как настоящий поэт, никогда за ним не замечал».
На перемене я встретился с Толиком нос к носу, но он мое предположение насчет опечатки отверг: «Это стихотворение я переписал из областной газеты, и подпись под ним стоит "Н. Новоселов", наверное, Николай».
Вот, вроде бы, и вся история − прочитал и забыл, но строчки эти, в особенности загадочное, но притягивающее звучанием слово «лабрадор», запали в память, как и имя их автора.
Другое имя − Игорь Ринк − запомнилось мне потому, что года через полтора, буквально в день отъезда в Ленинград на учебу мне попала в руки «Литературная газета» с похвальной рецензией на его книгу стихотворений «От Одера до Рейна». И фамилия автора необычная, да и само название книги. Ну, мало ли бывает необычных фамилий, а вот запомнилось.
И вот еще месяца три-четыре спустя, я, первокурсник морского училища, пришел на вечер танцев в университетское общежитие − где еще знакомиться с девушками, как не на танцах? Но оказалось, что перед танцами будут выступать ленинградские поэты. Когда ведущая назвала их фамилии, я ушам своим не поверил: это были Николай Новоселов и Игорь Ринк! Такое совпадение показалось мне забавным: мало ли в Ленинграде поэтов, а тут мои, так сказать, как бы знакомые, да еще оба сразу!
Худощавая фигура Новоселова, скромный пиджачок, негромкий голос совершенно не соответствовали моему представлению о «настоящем» поэте − «агитаторе, горлане-главаре», как учили нас в школе. Он свободно и уверенно вел встречу. Ринк первоначально был на вторых ролях, но когда он начал читать, как будто бы аккомпанируя себе на невидимой гитаре, то сразу овладел аудиторией, привлекая музыкальностью интонаций.
Подойти к выступавшим поэтам у меня духу не хватило: а что я им скажу? Но какое-то смутное ощущение предопределенности этой встречи вселилось в меня.
Наверное, ни один из «начинающих» ленинградских поэтов не миновал литконсультации при редакции газеты «Смена». Побывал там и я с одним стихотворением, консультант (фамилию которого я не запомнил), добросовестно прошелся по строчкам моего «произведения», поглядывая на ожидавших своей очереди стихотворцев. Замечания его были резонны, но больше я «Смену» не посещал.
Новые впечатления породили новые темы; я собрал написанное в единый цикл, который мне самому понравился. он нашел признание и у товарищей по курсу, которые с уважением отнеслись к моему сочинительству. я предполагал, что оно получит одобрение и у признанных авторов. В Союзе писателей девушка-секретарша посоветовала мне обратиться в какое-нибудь литературное объединение, например, вот это − «Нарвская застава». Оно собирается по средам, в восемь вечера, в библиотеке Дворца культуры имени Горького, что у Нарвских ворот. Девушка добавила, что объединением руководит поэт Николай Дмитриевич Новоселов. Я увидел в этом доброе предзнаменование.
Для знакомства мне предложили прочесть то, что я принес. То, что я услышал, завершив представление своего цикла стихотворений, иначе, чем словом «разнос», назвать было нельзя. Собственно говоря, ни Николай Дмитриевич, ни другие слушатели еще не сказали ни слова, но всех опередил один, которого я мысленно назвал «поэтом от станка». Он взял листы с моими стихотворениями и прошелся по ним от начала до конца, язвительно комментируя едва ли не каждую строчку. Мне подумалось, что мой суровый критик, скорее всего, поэт-неудачник, стихи которого в литобъединении жестко разбирали, и теперь он получил возможность отыграться. Впрочем, некоторые из его замечаний были дельными, и я даже удивился, как я сам не заметил этих огрехов. Изничтожив меня до конца, он торжествующим взглядом победителя оглядел аудиторию и сел на место, рядом с женой, которая, по-видимому, не очень-то одобряла его энтузиазм.
Другие выступавшие были немногословны, и у них были замечания, мелкие или крупные, но главное, что я уловил, − они как будто бы обращались ко мне: ты − «свой», ты вступаешь в наш общий круг.
Завершающий обсуждение Новоселов лишь мимоходом упомянул о моих промахах: тут − неверно поставленное ударение, тут − затертый эпитет, что называется, «штамп». Но главное, на чем он подробно остановился, было для меня совершенно неожиданным. Он сказал, что наиболее удачные из моих стихотворений продолжают традицию, заложенную Алексеем Лебедевым. «Помните − "Приборка на корабле":
Зашуми вода, засмейся,
Тысячью ручьев дробясь,
И беги по ватервейсу,
Унося с собою грязь…
А вот это стихотворение − прямая перекличка с Заболоцким, с его знаменитым стихотворением "Седов":
Он умирал, сжимая компас верный.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом...»
Николай Дмитриевич говорил о том, что надо приветствовать и поддерживать возрождение в русской литературе «морской» линии, идущей от Эдуарда Багрицкого, Николая Тихонова, Николая Гумилева, и процитировал что-то незнакомое мне, но как будто бы много раз уже слышанное:
…Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет…
Еще Николай Дмитриевич похвалил меня за то, что я знаю русскую поэзию, но желательно избегать уж слишком явных параллелей. «Вот, вы пишете:
Осень по кустам сушить развесила
Желтые измокшие листы…
Разве это не перекликается напрямую с Ахматовой:
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах»?
Я возвращался в училище в каком-то обалдевшем состоянии. Глядя на свое отражение в стекле трамвайного вагона, снова и снова перебирал в памяти и ядовитые реплики моего оппонента, и обнадеживающие слова своего нового руководителя и наставника. А кто такой этот Алексей Лебедев, о котором я никогда ничего не слыхал? И этот − Заболоцкий − с его стихотворением «Седов»? А чья это звучная строка «…С розоватых брабантских манжет»? Да и Ахматова, которую Николай Дмитриевич свободно цитирует: как я мог ей подражать, если ни строчки ее стихов не прочитал?
В ближайший выходной я поехал в Публичку, разыскал не востребованную годами тоненькую книжечку Алексея Лебедева и стихотворение Заболоцкого…
Не сразу и не вдруг я поближе познакомился с биографией Николая Новоселова, поэта-фронтовика, который о себе сам почти ничего не говорил.
Перед войной он, техник-конструктор и член комитета комсомола Кировского завода (бывшего Путиловского), уже писал стихи и входил в литературную группу «Смена» при Союзе писателей. В самые первые дни войны Николай вступил добровольцем в ряды Кировской дивизии народного ополчения – первой ополченческой дивизии, сформированной в Ленинграде. 1-й стрелковый полк был набран из рабочих и служащих Кировского завода. Двадцатилетний боец Николай Новоселов еще по инерции писал бодрые стихи:
…Обмотки крутим неловко,
И – наяву или в сказке? –
Нам выдают винтовки,
Лоснящиеся от смазки.
Шинельные скатки наденем.
В атаку –
С песней в груди!
И через три недели
Умрем или победим!
Не писать же было, что в дивизии не хватает и пулеметов, и минометов, и даже тех самых винтовок, «лоснящихся от смазки»… Николай послал стихотворение в «Комсомольскую правду». оно было опубликовано только в августе. А еще на следующий день после выезда из Ленинграда дивизия попала под массированный налёт вражеской авиации и понесла первые потери. 1-й стрелковый полк, совершив изматывающий пеший переход, занял позиции на Лужском оборонительном рубеже.
Мы навсегда забыли о прохладе.
Гремит артиллерийская гроза.
Горят леса.
И молят о пощаде
Ромашек воспаленные глаза…
Уже через три дня ожесточённых боев позиции дивизии были прорваны, она начала отход, практически попала в окружение и в тяжелейших боях потеряла три четверти своего состава. Остатки стрелковых полков, те, что ещё в середине августа были отрезаны от основных сил, ко 2 сентября 1941 года вышли из окружения, были наскоро пополнены и переформированы.
Из стихотворения «В сентябре сорок первого»:
Далеко-далече наши встречи.
С каждым шагом непроглядней мгла.
И России совестью
На плечи
Мне шинель солдатская легла….
Как в бреду бреду я под луною,
У судьбы пощады не прося.
Вся земля лежит передо мною –
Вся в пожарах
И в могилах вся.
«Не сдадим врагу ее ни пяди…»
Отдаем.
Сдаем за пядью пядь.
Мы уже почти что в Ленинграде.
Некуда нам больше отступать.
Николай Новоселов прошел войну до последнего дня, от Ленинграда до Праги, и на всю жизнь сохранил дружбу с поэтами-фронтовиками Николаем Кутовым, Петром Ойфой, Павлом Кустовым, Сергеем Орловым. Послевоенная жизнь складывалась трудно. Партия призывала писателей равняться на такие ложнопафосные произведения, как «Весна в "Победе"» Грибачева, «Кавалер Золотой звезды» Бабаевского, а в лексиконе Николая Дмитриевича слово «бабаевщина» было одним из самых ругательных, он писал о действительности без всякого приукрашивания:
Вчерашние лейтенанты
Рубли до получек считают,
На рынке у спекулянта
Лавровый лист покупают…
Обожженный войной на Лужских рубежах, Николай Новоселов остался верным главной теме, отпущенной ему суровой судьбой, вплоть до стихотворения «Могила бойца», открывающего его книжку «Тетрадь из полевой сумки»:
…Из жести венка запыленной
Сквозь треснувший холод стекла
Парнишка глядит удивленно,
Не веря, что юность прошла,
Что мы поседеем в походах,
А он, пережив свою смерть,
Всё будет навстречу восходу
Из траурной рамки
Сквозь годы
Вот так, не старея, смотреть.
Я вижу Новоселова за овальным столом, внимательно слушающим то ли прозаика-очеркиста Бориса Гусева, инженера-картографа, который казался нам почти патриархом − ему было уже под пятьдесят, то ли молодого баснописца Семена Суркиса, то ли тонкого лирика Диму Гаврилова:
Веселая багряность вишен тонких,
Ты снова осветила край с ела…
ела…
 ела…
ела… Встреча участников "Нарвской заставы". Читает свою басню Семен Суркис. Ведет обсуждение Н.Д. Новоселов
Николай Дмитриевич терпеливо разбирал по строчкам наши не всегда совершенные произведения, заботился о творческом росте своих подопечных, устраивал встречи с участниками других литобъединений города, выступления перед посетителями Дворца культуры, на радио и в периодической печати.
На выступления перед студенческой аудиторией или в рабочем общежитии нередко приходил Сергей Давыдов, сформировавшийся как профессиональный поэт в «Нарвской заставе». Он уже не посещал еженедельные встречи, но непременно откликался на приглашения Новоселова.
Сергей, который работал слесарем на заводе «Севкабель», никаких скидок на принадлежность к классу-гегемону не принимал и зазнайства по отношению к собратьям по перу и станку не допускал. Его стихи удивляли почти разговорной естественностью интонации. Они запоминались с первого чтения:
У Невы, где звонок смех, где смело
Режет воду сильное весло,
Майской ночью, майской ночью белой
Другу моему не повезло…
Он был ненамного старше нас, составлявших основной круг участников «Нарвской заставы», но в это немногое вместилось то, что резко разделяло нас: война. Безусловно, война коснулась и обожгла всех моих сверстников: кто был в эвакуации, в детском доме, кто − в оккупации под немцами, кто умирал от голода в блокаде, но младший сержант Сергей Давыдов смотрел на противника через прорезь пулеметного прицела.
В шестнадцать лет,
в семнадцать лет,
на долю пало мне −
не из рассказов и газет
услышать о войне…
Врага в медалях и крестах
увидеть в полный рост,
встречать друзей
в чужих местах
мне лично довелось…
Глотать артподготовки дым,
ценить костра тепло…
Не всем ровесникам моим
так в жизни повезло!
После победы он был отправлен в отпуск и, как положено, явился для отметки отпускного свидетельства в местный военкомат. А там его неожиданно демобилизовали, поскольку выяснилось, что он еще не достиг призывного возраста.
Сергей превосходно читал свои стихи; его поэзия тех лет, скорее всего, была ориентирована не на читателя, а на слушателя, даже если это не специально собранная аудитория, а случайный одиночка, с которым он с первых строчек сливался во взаимопонимании. Мы, участники объединения, любили его как старшего товарища, пытаясь найти, как и он, свой поэтический голос, свою интонацию, своего слушателя. С первого до последнего дня своей творческой жизни Сергей оставался тонким лириком, особое очарование стихам которого придавал его мягкий и прозрачный юмор:
Так сердце сжимает Нева,
когда от нее уезжаешь,
так мучают ночью слова,
когда их и утром не знаешь,
так мучает тополь,
скамья,
раскаты нездешнего грома −
как женщина, нет, не твоя,
а так…
из соседнего дома.
 В последний раз я встретился с Сергеем Давидовичем на очередном совещании молодых писателей, в котором он участвовал уже в качестве руководителя одного из семинаров. Я попросил его расписаться на своей странице в книге «День поэзии − Ленинград». Он устало вздохнул и написал: «Сергей Давыдов − в банные дни!».
В последний раз я встретился с Сергеем Давидовичем на очередном совещании молодых писателей, в котором он участвовал уже в качестве руководителя одного из семинаров. Я попросил его расписаться на своей странице в книге «День поэзии − Ленинград». Он устало вздохнул и написал: «Сергей Давыдов − в банные дни!». Сергей Давыдов
В конце жизни поэт долго и тяжело болел и оставил после себя более полутора десятков книг стихов, переводов, прозы, среди них и строки, от которых щемит сердце:
Ленинградец душой и родом,
болен я сорок первым годом.
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
и не знает, что дождь идет…
Но вернемся за овальный стол «Нарвской заставы».
Вадим Пархоменко отличался добродушием флегматика. К числу его талантов, кроме литературных, принадлежал еще один, не так уж часто встречающийся в племени самовлюбленных поэтов, − умение дружить. Его стихи были такими же добрыми и ровными, как он сам:
Не дрогнет от ветра над речкою вяз.
Закат побледнел,
Посинел
И погас.
И где-то в степи
Зажглись огоньки,
И падают звезды
В заводь реки…
С ним можно было встретиться не только в ДК Горького, но и у него дома, на улице Декабристов, беззаботно посидеть с кружками пива, в которые для крепости была разлита на троих поллитровка, и вести неспешную беседу обо всем на свете. сильные и резкие эмоции были не в его характере, но неожиданно они проявлялись в некоторых стихотворениях:
Сегодня дома
Все уже не так.
Пришел в мой дом
Не друг, но и не враг, −
Пришел и сел
За дорогой мне стол,
Где мой отец
Со мной беседы вел;
Пришел и лег
В двуспальную кровать, −
Мой дом
Своим стал домом называть,
И обещал мне
Заменить отца, −
Но разве можно
Жизнь начать с конца?..
Придя на мой день рождения, Вадим с порога заявил, что он торопится и должен уйти пораньше, чтобы не опоздать на поезд: завтра открывается Московский фестиваль молодежи и студентов, а он прикреплен переводчиком к болгарской делегации. Ну что же, раз надо, так надо; сначала на его напоминания отвечали «Не торопись, успеешь»; потом ему стали говорить: «А ты не забыл, что должен ехать в Москву?». Время шло, Вадим повторял, что должен уйти, но никак не уходил, так что вся компания хором его выпроваживала: «Поезжай!».
Не избежал Вадим и «производственной» тематики, отдав ей, впрочем, довольно скромную дань:
Эхо охрипло,
Устало
И где-то блуждает в горах,
А люди рвут аммоналом
Скалы на берегах.
А люди в брезентовых робах
С природой сраженье ведут:
Здесь мужеству — высшая проба,
Здесь высшее мужество — труд!..
 Почти всё поэтическое творчество Вадима Пархоменко относится ко времени его участия в «Нарвской заставе», к 50-м годам. Лишь одно стихотворение написано много позже и датировано 1981-м годом. Оно − о любимом городе:
Почти всё поэтическое творчество Вадима Пархоменко относится ко времени его участия в «Нарвской заставе», к 50-м годам. Лишь одно стихотворение написано много позже и датировано 1981-м годом. Оно − о любимом городе: Задумчив город в дымке серебристой,
В неярком солнце строже блеск шпилей.
Пусть ночи стали холодны и мглисты —
Им не убавить красоты твоей!
С тобой всегда я — в радости и в горе...
Шумит прибой и тихо в берег бьет.
Здесь на века поднялся чудо-город,
Здесь в каждом камне творчество живет!
Вадим Пархоменко
В течение четверти века Вадим работал в Лениздате старшим редактором. биографическая справка сообщает: «Под его редакцией вышло много содержательных и интересных книг и брошюр», но мне удалось найти только одно название: «Цветоводство».
Не только участники литобъединения, но и те авторы и коллеги по работе, с которыми он общался, запомнили дружелюбие и доброжелательность, которые отмечали всю его недолгую жизнь. После него осталась книжка прозы и три книжечки стихов, которые были изданы крохотным тиражом за счет средств его вдовы.
Я не знаю, где тот день тревожный,
Что спокойным счастьем не маня,
Вдруг придет, судьи любого строже,
И сурово глянет на меня.
И, ему взглянув в глаза открыто,
Веря в то, что пройден путь не зря,
Я уйду − пускай и позабытым,
В вечные пространства бытия.
И оттуда пусть хоть слабым светом,
Пусть хоть каплей влаги дождевой,
Вновь приду я к людям на планету,
Вместе с ними снова стану в строй…
Предисловие к одной из книг Вадима написал его друг, Валентин Горшков: «С Вадимом Пархоменко у меня прежде всего связаны воспоминания о юности и занятиях в литературном объединении "Нарвская застава" при Дворце культуры имени Горького. Нам нравилась атмосфера, царившая на занятиях,− честная и доверительная. В центре внимания неизменно был наш литературный наставник, талантливый поэт-фронтовик Николай Дмитриевич Новоселов. По правую руку от него обычно занимал место Вадим Пархоменко, избранный, несмотря на его молодость, "старостой" литобъединения».
А вот и сам Валя Горшков. В «Нарвской заставе» он считался самым перспективным, самым многообещающим поэтом. Он умел находить неожиданные, «не затрепанные» образы. Его поэтический талант расцветал прямо на глазах:
Я иду. Весенняя прохлада
Дышит мне в открытое лицо.
У ворот автобусное стадо
Дремлет, обретя свое кольцо...
Он превосходно знал всю русскую поэзию, ему часто хотелось поделиться с товарищами эмоциональным восприятием других авторов. Валентин тяготел к крупным стихотворным формам; в этом он находил опору в творчестве Дмитрия Кедрина и Николая Дементьева, талантливейшего и несправедливо забытого поэта. Помню, как он нервно и выразительно, словно свое собственное творение, его прочитал рассказ в стихах «Мать».